Анатолий Ананьев - Версты любви
- Название:Версты любви
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Молодая гвардия
- Год:1976
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Анатолий Ананьев - Версты любви краткое содержание
В романе «Версты любви» рассказывается о судьбах двух героев — двух наших современников. Судьбы эти сложные, во многом нелегкие, порой драматичные.
Автор затрагивает нравственные и социальные проблемы нашего времени. Герои романа думают о добре и зле, о месте человека в жизни.
Издание третье.
Версты любви - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
«Спасибо вам, Женя», — сказала она, кончиком простыни вытерев слезы.
«Ну что вы».
«Мне еще никто никогда не преподносил цветы», — тихо добавила она и опять отвернула лицо к стене.
«Как вы себя чувствуете? — спросил я, чтобы перевести разговор на другое. — Что говорят врачи? Василий Александрович сказал, что все идет на поправку».
«Вы его видели?»
«Да».
«Когда? Сегодня?»
«Нет, — солгал я, даже не знаю почему, инстинктивно, что ли, заметив, как все насторожилось в Ксене. — Вчера вечером мы сидели с ним и разговаривали», — докончил я, чувствуя на себе ее пристальный взгляд и стараясь тоже смотреть на нее прямо, открыто, будто и в самом деле говорил только то, что было.
«А вы опять в Гольцы?»
«Да».
«Надолго?»
«На неделю-две, как всегда».
«И вам не наскучило: каждый год?»
«Разве может наскучить то, чем живешь, Ксеня? Гольцы для меня — что родная Чита, что Сибирь, что Севастьяновка, есть такая деревенька под Читой», — начал я и, сказав это, сам не зная почему, повел рассказ про Омутовку, про паром и паромщика дядьку Якова, а для чего? Ведь на душе у меня было совершенно другое, и чувствовал и думал я о другом, а этим рассказом лишь бессознательно, наверное, так считаю, старался приглушить в себе как раз те, другие мысли и чувства. Я смотрел на худое лицо Ксени, и в то время как произносил «дядька Яков», этот самый дядька представлялся мне стариком, что однажды неожиданно пришел в дом Ксени; вот он разворачивает и кладет на стол свой драгоценный деревенский гостинец и затем склоняет перед Ксеней белую старческую голову, я вижу счастливое лицо Ксени и весь ее удивительный мир доброты, счастья и радости жизни и радуюсь, что он есть, что я встретился с ним и что живет он вот с ней, Ксеней, в ее глазах, в движениях ее рук (временами, всматриваясь, я действительно как будто начинал различать прежнюю красоту ее лица), но, как подтачивает червь дерево, въедалась, разрушая и опрокидывая это, в общем-то, уже прошлое, пережитое чувство, тревожная мысль, та же, что возникла, когда я еще только вошел в палату: что я, в сущности, прощаюсь с Ксеней, что это последний мой разговор с ней и что, самое страшное, я бессилен что-либо изменить. «И Рае не хотелось умирать, — думал я, чувствуя, знаете, как если бы то, что случилось с Раей, случилось со мной, как ей не хотелось умирать. — Но она ушла. И Ксеня уйдет, а я жив, и Василий Александрович жив, и тот, о ком Рая не оставила записки, тоже жив! Добро к людям... А плата за это добро? К кому добра жизнь?» Я удивляюсь теперь, как можно было одновременно и думать вот так, о чем я сейчас говорю, и в то же время рассказывать Ксене о разных, и не смешных вовсе, хотя я и старался как можно естественнее улыбаться, чтобы развеселить ее, ребячьих шалостях, какие проделывали мы — да кто из мальчишек не лазил по чужим огородам, боже мой! — в Севастьяновке, и удивляюсь, если хотите, не столько раздвоенности — она возможна, и с вами, наверное, бывало такое, — а тому, как люди; в данном случае я и Ксеня, вполне сознавая, что разговор этот вовсе не интересен для нас, ложен, что говорить надо о другом, а что эти слова — и мои и ее — лишь скользят, как, знаете, капли воды по гладкой, отполированной поверхности, — как мы, я подчеркиваю, притворялись, делая вид, что с интересом я говорю, а она слушает, тогда как главным для нас обоих был совсем другой разговор, безмолвный, что мы читали в глазах друг друга. Ведь она ничего не знала о моей жизни, я никогда не рассказывал ей ни о любви к ней, ни о пережитой когда-то любви к Рае, и о том, как хоронил ее, и, конечно же, ни о Москитовке и Зинаиде Григорьевне, но Ксеня смотрела на меня так, будто знала все, и так же, как я жалел ее и чувствовал, что мог бы сделать ее счастливой, я видел, она жалела меня, будто ей было известно, как мучился я эти годы, тоскуя и думая о ней, известны все малейшие движения моей души, и ей было больно, что она кому-то, кто не оценил ее, а не мне отдала копившиеся в ней для жизни добрые чувства. «Вот видите, — как бы говорила она, минутами вскидывая на меня глаза, — если бы тогда вы взяли меня или хотя бы не опоздали, ничего этого не было бы сейчас. А разве я не хотела поехать с вами? И разве не говорила вам об этом?» Может быть, поддавшись тому давнему воспоминанию, я вдруг — точно помню, что вдруг, потому что и ее смутил и сам смутился, — нагнувшись, взял ее руку и так же, как когда-то в подражание комбату, но, разумеется, теперь не думая о том пожал ее холодные пальцы.
«Ничего, Ксеня, все будет хорошо, — проговорил я, как и тогда, зимой, в покидаемых нами Калинковичах. — Главное... — Но то, что действительно было для меня главным, произнести не мог и потому, краснея и не выпуская ее пальцев из своей ладони, несколько раз еще повторил про себя: «Главное... главное...» — прежде чем нашел нужные для завершения фразы слова: — Поправляйтесь и берегите себя».
«Вы уже уходите?»
«Да», — сказал я, хотя секунду назад не собирался уходить.
«Вы еще придете?»
«Непременно».
«У Васи сегодня много дел, а мама здесь, со мной. Приходите, она будет рада».
«Непременно», — повторил я, еще раз пожав — я уже стоял, склонившись над ней, — ее согревшиеся теперь пальцы.
Прежде чем выйти из палаты, у самой двери, чуть приоткрыв ее, я остановился, обернулся и снова взглянул на Ксеню, в палате было сумрачно, и я уже не мог издали разглядеть лица Ксени, но тени, лежавшие в провалах ее щек и глаз, и белая простыня, прикрывавшая ее вытянутое на постели худое тело, опять как бы отбросили меня к тем минутам, когда я стоял перед лежащей в гробу Раей, и какой-то будто могильный холодок прокатился по съежившейся спине. «Да нет, да что я, просто тени так», — подумал я, уже спускаясь по лестнице и передавая халат дежурной сестре. Но впечатление всегда сильнее любых утешительных слов. Я вышел из больницы как будто выпотрошенный, да и всю неделю потом жил какою-то неестественной, неживой, что ли, жизнью, только лишь думая, да и то с вялостью, — так уже однажды было со мной, если помните, после похорон Раи. Я не пошел к Василию Александровичу в тот вечер, а провел ночь в фойе гостиницы в кресле, полудремля, полубодрствуя и опять и опять думая обо всем прожитом и пережитом мною, а в общем, о жизни, сколько в ней справедливости и к кому и, если хотите, даже что такое вообще справедливость, чем можно измерить ее и равно ли понимается это слово всеми или у каждого своя справедливость, как и свое понятие добра, любви, ненависти; вероятно, и следующую ночь, так как свободных номеров не было, я просидел бы все в том же кресле, если бы не Василий Александрович, который еще утром, проснувшись и не обнаружив меня, заволновался, забеспокоился и после работы сразу побежал в больницу, хотя и был неприемный день, потом ездил на вокзал и обшарил, как он выразился, все уголки зала ожидания («Обидчивый же ты! А если я вот так плюну и обижусь, а?») и оттуда прямо в гостиницу.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
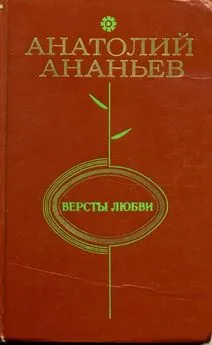

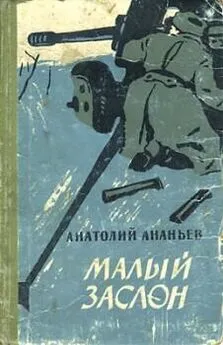
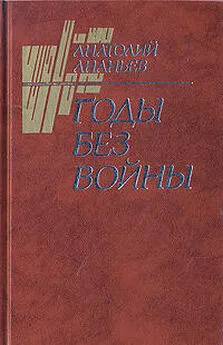

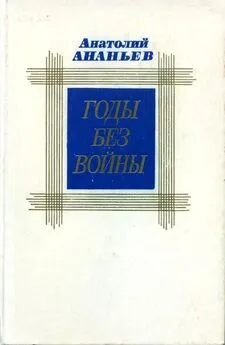
![Анатолий Ананьев - Танки идут ромбом [Роман]](/books/1073448/anatolij-ananev-tanki-idut-rombom-roman.webp)


