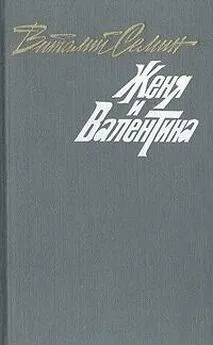Виталий Сёмин - Женя и Валентина
- Название:Женя и Валентина
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Виталий Сёмин - Женя и Валентина краткое содержание
Женя и Валентина - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— Понимаешь, — говорил Курочкин, — дух! Дух у ребят какой! Жизни осталась минута, а он лезет!
— Сильный человек — это, конечно, хорошо, — говорил Слатин. — Но не родился с сильной нервной системой — и все? Что же тут делать?
Курочкин презрительно улыбался, он знал, что надо делать со слабыми. Голова от этого у него не болела. Но вообще, когда они спорили, Курочкин слушал напряженно, тер пальцами виски — сосредоточивался, хотел понять, но то, что он знал, было гораздо сильнее того, что мог сказать ему Слатин.
— Миша, — говорил он, — когда мой срок подходил к концу, воры в моем бараке собрались пришить трех работяг. Я этого уже стерпеть не мог и пошел к начальнику. Он первым делом спрятал меня в карцер, чтобы до меня не добрались. Мы пошли с охранником, а во дворе к нам бросился человек — за ним гнался вор. Я вору подставил ногу — он упал. Для меня это было уже все! Человека, которого я спас, посадили вместе со мной. Это ж как сказать по справедливости? Я ему жизнь спас, мог рассчитывать на какую-то благодарность. А он ночью деньги у меня украл.
У него в запасе всегда были такие примеры, и он не соглашался со Слатиным, который говорил, что примеры ничего не доказывают уже хотя бы потому, что ими можно доказать все, что угодно.
— Это раньше ничего не доказывали. А теперь многие побывали там, где человек виден насквозь!
О чем бы они теперь ни говорили, все выходило продолжением их постоянного спора. Пожаловался им сосед Слатина: завел дорогую собаку, давно мечтал, а сын таскает ее за хвост, заставляет бегать, как дворнягу, с мальчишками. Пес еще молодой, но уже видно, никакой сторожевой злобности у него не будет.
— Зачем тебе злая собака? — сказал Слатин. — Пусть будет добрая.
— Испортишь собаку, — усмехнулся Курочкин. — Тут надо выбирать — сын или собака. Понятно, сын. Но собаку испортишь. На нее даже замахиваться нельзя. Собака должна быть уверена, что сильнее всех на свете. Что только хозяин сильнее ее.
…Идут вместе на работу под дождем. Курочкин далеко обходит лужи, туфли на нем чистые, брюки наглаженные, новенькое пальто не вымокло, а у Слатина брюки и туфли забрызганы, сам раздражен — повздорил с женой.
— За пять лет ни в чем друг друга убедить не можем.
Курочкин заходит в подворотню, чтобы переждать сильный порыв, и сдержанно улыбается. Улыбка у него имеет десятки оттенков, он точно ее дозирует. Улыбается ровно настолько, насколько считает нужным улыбнуться. Уговорить никого ни в чем нельзя — это ему давным-давно известно. Вести к цели может только сила. Он не говорит этого, но Слатин понимает и так.
Дома у Курочкина иллюстрированные журналы, научно-популярные брошюры. Он их читает. Но знает немало. Имена политических деятелей многих стран, имена генералов, названия городов — все это держится у него в голове. Память у него прекрасная. Не запинаясь, он произносит самые интересные фамилии. Если Слатин говорит: «Надо писать правду», — Курочкин кричит:
— Миша, какую правду?! Что такое правда? Умно надо делать!
Он считает, что все, в основном, у нас делается умно. Сильная внутренняя политика, сильная внешняя. Только ноты протеста, за которыми не следуют решительные поступки, его раздражают.
— Нечего ругаться матом, — говорит он, — если боишься в морду дать!
Себя он считает обойденным только потому, что он мог бы делать все умнее, чем тот же Платонов, но руки у него связаны. Причем умнее для него не значит квалифицированнее, честнее, с большим знанием дела. Курочкин что-то совсем другое вкладывает в это слово. А когда он рассказывает Слатину о своих стычках с редактором, видно, что чувства его раздваиваются — Курочкин всегда примеривает на себе самые высокие должности и себя ни в коем случае не согласен считать униженным и оскорбленным. Инстинкт самосохранения мешает.
— Правильно! — говорит он о редакторе и усмехается. — У редактора всегда в руках должна быть суковатая дубина. И вообще я тебе скажу, инициативные люди нужны только во время войны. Ты вот говоришь, газету надо делать, хорошо писать, честно. Кому это нужно — «хорошо писать»? Газету нужно делать — и все! Ты тут будешь, я. Или ни тебя, ни меня здесь не будет — газета будет та же. Я вот иногда думаю о себе: талантлив же я чертовски, смел, будь война, я бы мог так развернуться! А так талант мой пропадает. А что делать?
И он смеялся и, будто собираясь танцевать, слегка поводил плечами.
Дружил он с ребятами, которые были лет на десять моложе его.
— Мне с ними интересно, — говорил он. — Мы вместе ухаживаем за молодыми женщинами.
Может быть, и к Слатину его привязывало то, что Слатин сохранил еще какую-то мускульную молодость, азартно играл в пинг-понг. Они всегда скандалили, когда играли, и если Курочкин проигрывал, он ругался страшными словами, и лицо его искажалось гримасой. Выигрывая, он говорил, забывая о бюллетенях, которые часто брал:
— Миша, я здоровый. Может, поэтому я никогда ничего не боялся. Всегда чувствовал себя здоровым.
Они и спорить начинали тут же, и Курочкин слушал, напрягаясь, стараясь понять. Прикладывал пальцы к вискам, а в глазах боль, головная боль — так трудно ему отвлекаться от того, что он считает единственно правильным, и так честно он старается сосредоточиться на чужих мыслях. Ни в чем не сходясь, они и людей, работающих в редакции, оценивали по-разному. Если Слатин говорил, что вот Головин настоящий мастер, обладающий журналистской мгновенной грамотностью, то Курочкин только презрительно и снисходительно посмеивался:
— Грамотность, грамотность! Далась она тебе.
Но в редакции дела Курочкина шли плохо, и было время, когда казалось, что его вот-вот уволят.
Однажды он принес в отдел те самые стихи, которые когда-то привозил из района. Он отдал их Вовочке с улыбкой, которая означала: «Тогда я был сторонний автор, а теперь работник редакции». Через несколько дней Вовочка вернул их ему с одной из самых своих очаровательных улыбок.
— Все-таки не понравились? — сказал Курочкин.
Вовочка, все так же улыбаясь, развел руками.
Года через полтора Курочкина назначили заведующим отдела информации.
Слатин как-то спросил у Головина:
— Если бы ты решил написать о нашей редакции роман, какое событие ты бы положил в основу сюжета?
Головин задумался.
— Я бы написал о том, — сказал он, — какие люди уходят и какие приходят.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
По крайней мере, в первый год работы в газете Слатин был счастлив. Слатина отличало одно вполне определенное обстоятельство — у него было постоянное и очень сильное желание понять мир при стойком ощущении, что он его не понимает. Это постоянное ощущение — не понимаю — его мучило. Так много страданий человеческих он видел в детстве, слышал о них, становясь подростком, юношей. Он видел верующих людей и никогда не верил сам. Он знал, что не понимает, и искал книги и людей, которые помогли бы ему понять. Нужен был смысл для жертв военных, голодных и других лет, нужна была логика — логика истории, прогресса, которая давала бы человеческое освещение всему тому, что он видел. Слатин прекрасно понимал, что в момент убийства или насилия факт этот мог не иметь ничего общего с какой бы то ни было логикой. Но потом он обязательно должен был вовлекаться в движение истории, освещаться историческим смыслом, вступать в связь со всеми другими историческими фактами. Связь должна была быть! Поэтому он испытывал такое наслаждение, читая у Маркса фразы, которые звучали примерно так: «Дело не в том, что сейчас думает отдельный рабочий, и даже не в том, что думают целые группы рабочих — дело в том, что вынужден будет сделать весь рабочий класс, чтобы выжить и сохранить себя». Вынужден будет! Слатин, конечно, немного мистифицировал для себя материалистические законы. В это «вынужден» он вкладывал не совсем то, что думали по этому поводу великие Маркс и Энгельс. Но Слатин не был великим. Он был провинциальным интеллигентом, и счастье его было не в том, что он открывал великие исторические законы, а в том, что, испытывая на себе действие этих законов, он испытывал счастье понимающего, принимающего и участвующего. Это было счастье зрячего. Слатин, провинциальный интеллигент, марксист, видел то, чего не могли видеть Маркс и Энгельс, — подтвержденную практикой теорию великого ученого. И это было ни с чем не сравнимое счастье! Слатин нашел великую теорию и великих учителей. Он узнавал — и темные, слепые факты обретали смысл и объяснение. Это было не только объяснение, но и преодоление жизни. У Слатина было то, чего всю жизнь искали ищущие, верующие, избранные: у него была цель, у него была вера, у него было знание, и если бы он был постарше, можно было бы сказать — мудрость. Потому что когда он узнал, он успокоился в чем-то. Он нашел, ему незачем было суетиться. И жизнь и даже возможная смерть во время грядущей большой войны, неизбежность которой он чувствовал, теперь обрели смысл. Даже возможная несправедливость по отношению к нему не пугала его потому, что он в значительной мере утратил страх за себя, увидел то целое, в которое он входил незначительной частью. Соразмерил пропорции. Он мог сжиматься, работать по четырнадцать часов, изматываться до предела, мог отказаться от того, что называют личной жизнью, — знал, ради чего. А разве не этого, как самого высочайшего счастья, добивались думающие люди всех веков и народов — знать, ради чего можно пожертвовать своей жизнью?! Жизнь надо наполнить смыслом, тогда ею легко пожертвовать. У Слатина жизнь была наполнена смыслом.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: