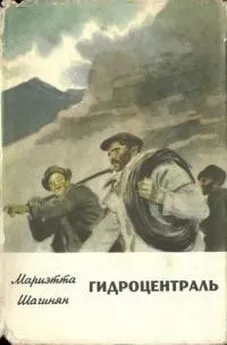Мариэтта Шагинян - Первая всероссийская
- Название:Первая всероссийская
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Красноярское книжное издательство
- Год:1982
- Город:Красноярск
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Мариэтта Шагинян - Первая всероссийская краткое содержание
Тетралогия «Семья Ульяновых» удостоена Ленинской премии 1972 года.
Первая всероссийская - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— А знаменитый хирург Пирогов, причастный делу просвещения, за сечку стоит! Сечь в экстренных случаях необходимо, полезно и нравоучительно, — вот какова его мысль. Не скажете же вы, что такая светлая личность — ретроград? — опять поддразнил Белокрысенко, слушая рассказы Ильи Николаевича.
— Не я, не я, другие и об этом сказали! Вспомните Добролюбова!
И Ульянов живо достал с полки четвертый том Добролюбова издания 1862 года, с которым никогда не расставался, и раскрыл на странице 449. Он очень любил читать вслух и сейчас прочитал стихи из «Свистка», написанные под ритм дивного лермонтовского «Выхожу один я на дорогу».
Выхожу задумчиво из класса,
Вкруг меня товарищи бегут;
Жарко спорит их живая масса,
Был ли Лютер гений или плут.
Говорил я нынче очень вольно, —
Горячо отстаивал его…
Что же мне так грустно и так больно?
Жду ли я, боюсь ли я чего?
Нет, не жду я кары гувернера,
И не жаль мне нынешнего дня…
Не хочу я брани и укора,
Я б хотел, чтоб высекли меня!..
Но не тем сечением обычным,
Как секут повсюду дураков,
А другим, какое счел приличным
Николай Иваныч Пирогов…
— Ну и так далее. Убил, убил Добролюбов научное обоснование сечки уважаемого нашего хирурга! На всю жизнь пятно останется… — Илья Николаевич, согнувшись перочинным ножичком, хохотал над прочитанной пародией, покуда Белокрысенко, против воли, улыбался себе в бороду.
Главное, что не переставало изумлять его, так это практический результат деятельности инспектора — вот он — мягкий, ласковый, с виду такой уступчивый — веревки из него вить, — а камни точит по капельке своим упорством. Десять раз скажет, сто раз проверит, сам пересмотрит, — и как рыбак свой невод, — тащит свое дело тихо, без дерганья, все целиком, тащит и приволакивает рыбу… А невод штопает, чтоб был цельным, и знает, где какая клетка слаба.
— Ну нет, — часто поправлял Белокрысенко Назарьева за картами в городском клубе, — энтузиасты беспочвенные — это мы с вами, вы да я, а Ульянов — кремень, твердыня, есть в нем, знаете ли, как бы это сказать, — система, последовательность, трудовой навык.
Если б учителю Захарову, так обескуражившему молодого Илью Николаевича в Пензе своей характеристикой, довелось в эти симбирские годы понаблюдать за его деятельностью, он бы, пожалуй, и не изменив своего вывода о новых, особых людях будущего, признал непременно, что «твердую основу» и «систему в работе» Ульянов сможет передать грядущему поколению по наследству…
Практический результат, о котором думал Белокрысенко, были люди. Как и во все исторические времена и во всяком обществе, у них в Симбирске принято было говорить со вздохами: «Что прикажете делать? Людей нет, нет людей!» А вот инспектор словно сеял и взращивал их вокруг себя. Ну что бы, казалось, Рекеев, — чувашский парнишка, пришел из деревни в город босый, держа лапти в руках на веревочке, а через два каких-нибудь года совершенно и не узнать его, сам будет учительствовать… И какие-то они выходят особенные.
Учителей, поднятых ученым-чувашем, Иваном Яковлевичем Яковлевым, не будь инспектора Ульянова, быть может, ждала бы в будущем неприглядная миссионерская судьба крещеных попов на языческой деревне. Сам Иван Яковлевич, увлеченный Ильминским, обрусителем татар, тоже не перескочил бы узкого круга, допущенного учебным Казанским округом для просвещения чувашей. Обрусители, крестители, воспитатели в православной вере инородцев, царю и отечеству на пользу, это, конечно, — думал не совсем правоверно, сам — царский чиновник — Арсений Федорович Белокрысенко, — это, разумеется, нужно для развития государства, но… И в душе его это «но», чем дальше, тем больше, от общения с Ульяновым, вырастало в своем протестующем значении: «но» — «Но» — «НО»… Главное, все-таки чем же такая ограниченность отличалась бы от темноты и невежества всей темной, заскорузлой, православной русской деревни?
— Именно с тем, с чем идет просвещение в нашу, в русскую деревню, — говорил за чаем инспектор своему куму, — с тем должно идти оно и в деревни чувашские, мордовские, татарские. Разницы в программе, в цели просвещения, кроме родного языка, национальность не должна иметь, национальность тут ни при чем. Мы развиваем русского крестьянина, пробуждаем его умственный интерес, любознательность, познание окружающего. Грамоте учим, чтоб читал книги. Мы его к общей жизни приобщаем. Почему же чуваш должен стоять за дверью? Читать только молитву, думать только о податях, ходить только в церковь?..
Иван Яковлевич Яковлев, приехавший из Казани, стал тоже частым гостем в доме инспектора народных училищ. Он из писем своих любимых старших учеников, того же Рекеева, Иванова, Исаева уже знал, какую заботу проявляет Ульянов к оставленной им в Симбирске школе и как собирается сделать из нее учительские курсы за счет министерских ассигнований. Заменявший Яковлева в школе Иван Исаев писал ему 17 апреля 1871 года из Симбирска: «После Пасхи к нам приходил Илья Николаевич, он немного у нас посидел, спросил, все ли приехали». Нельзя было не сделать об этом памятки в сердце своем: заходил, посидел, поинтересовался, — да еще сразу после праздника, за несколько дней до дня рождения своего сынишки, которому исполнялся годик. А прежний питомец, Александр Рождественский, писал ему о своем назначении учителем в Ходары и о том, как доверяет ему господин инспектор руководить постройкой будущего здания школы. Все это были утешительные, располагающие факты, заставлявшие заранее хотеть встречи с Ульяновым.
Иван Яковлевич Яковлев был настоящим, большим сыном своего народа, одним из тех, кого выносит история на хребте, сосредоточивая в нем нервную силу, интеллект и характер за многие сотни соплеменников, как в представителе своего народа. Он, один из тысячи, пробил себе дорогу, стал не только школьником наравне с русскими, но и студентом Казанского университета, математиком, образованным человеком, интеллигентом. Однако в противность той категории пробившихся к знанию людей из народа, кто сейчас же и отходит от него, поднимаясь классом выше, по ступенькам чиновничьей иерархии, — Иван Яковлевич и учился лишь для того, чтоб учить и тянуть к свету бедный народ свой, дать ему выход из тьмы на солнце, из нищей и страшной языческой жизни к существованию человеческому, достойному образу и подобия человека, где больные детские глаза, где бич деревенской нищеты и грязи — чахотка, где повальная оспа, в эпидемию уносившая сотни жизней, или доходившая сюда из Нижнего, полюбившая Волгу, холера, — где болезни эти лечились бы в больницах врачами и фельдшерами, а не воплями и бубнами шаманов. Хорошо было в большой, почти что столичной Казани, среди образованных товарищей и сочувствующей профессуры, — а Иван Яковлевич, едва дождавшись окончания, устремился назад, на родину. Ильминский прививал ему особое значение слова «миссионер», как личную «миссию», как подвиг, на который помазан он, как церковнослужители, новой, несущей свет, религией. Но даже тогда, захваченный красноречием Ильминского, задумывался Иван Яковлевич, только ли в этом миссия его? Не будучи священником, должен ли он чувствовать себя «помазанным»?
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
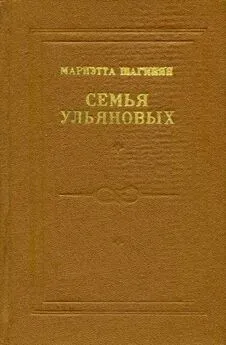

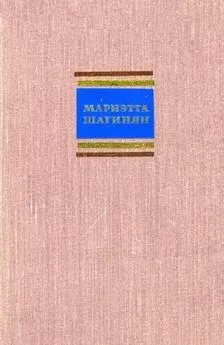
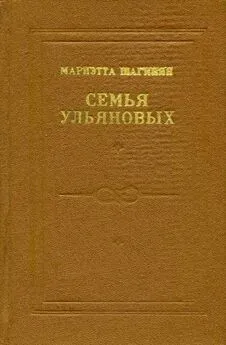
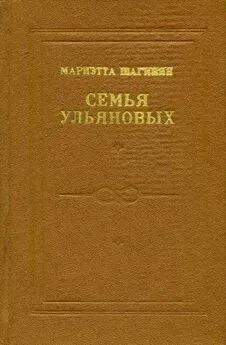
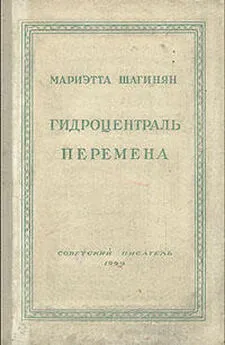

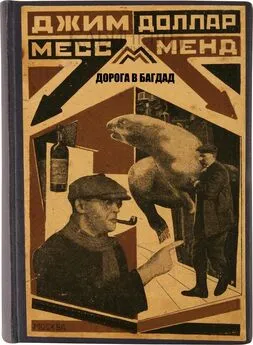
![Мариэтта Шагинян - Месс-Менд, или Янки в Петрограде [Советская авантюрно-фантастическая проза 1920-х гг. Том XVIII]](/books/1085114/marietta-shaginyan-mess.webp)