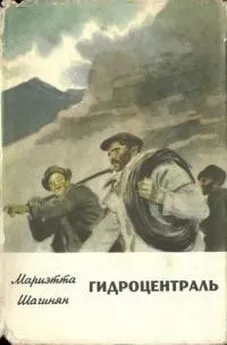Мариэтта Шагинян - Первая всероссийская
- Название:Первая всероссийская
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Красноярское книжное издательство
- Год:1982
- Город:Красноярск
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Мариэтта Шагинян - Первая всероссийская краткое содержание
Тетралогия «Семья Ульяновых» удостоена Ленинской премии 1972 года.
Первая всероссийская - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Атмосфера в вагоне заметно накалялась. Народные учители, правда, были далеки от этого спора, слишком мало знакомы с вопросом, но их было в вагоне меньше, чем гимназических преподавателей и инспекторов, да и робели они настолько, что, кроме Новикова, в спор не вступали и, сидя по углам, только слушали. Среди преподавателей преобладали словесники и математики; первые болели уже давно за родной язык и радовались случаю высказаться безбоязненно, по-дорожному, когда лишнее слово никем в вину не поставится; вторые считали Выставку как бы своей, отвечающей интересам близких им наук, и от души поддерживали накал в воздухе. А латинист, словно подзадоренный и вдохновленный этим накалом, весь порозовев, продолжал:
— Если хотите знать, — самой гражданственностью русские, да не только русские, обязаны классическому образованию! Все, кто заложил первые семена гражданского сознания на Руси, прошли через латинскую школу. Сызмала, с юности приучены были к великим образам древности классической, а что такое образы эти, как не высочайшая степень работы на пользу общества? Трибуны, полководцы… Что такое войны в Греции, герои Фермопил, защитники афинской демократии? Фокион?.. А римское дело общественности, Республика? Борьба против диктаторов, речи против Катилины? Интересно, чем бы воспитывалась гражданственность в Рылееве, в Радищеве, в Пушкине, в наших современниках, если б не запавшие в память уроки великой классики?
Такой оборот речи смутил на время слушателей, но словесник, севший в Нижнем, отозвался, чуть пришепетывая, — словно возмущенье мешало ему говорить в полный голос:
— Это у нас-то нет традиций собственной гражданственности? А «Слово о полку Игореве»? А «Русская правда»? А князь Курбский? Да я вам десятки, сотни примеров назову!
— Вы что же, самобытность нашу отрицаете? — крикнули из дальнего угла. — На латиниста напали со всех сторон, — даже народные учители, отроду не видавшие латинской грамматики, но и ничего не слышавшие ни о протопопе Аввакуме, ни о каких-то судебниках, ни о прочих памятниках допетровой Руси, неожиданно осмелев, стали подавать воинственные реплики с мест. Латинист замолк и только беспомощно оглядывался во все стороны, поставив недопитый стакан на столик.
Илья Николаевич почувствовал эту грозу в воздухе. Было что-то несправедливое в том, что десятки нападают на одного. И всей доброй натурой своей, всем личным обаянием он не то чтобы вмешался в спор, а словно налег на невидимый рычаг, меняя направление спора:
— Читали вы, господа? Пятнадцатого мая вышел, наконец, указ об открытии у нас реальных гимназий с программой реальных наук на первом плане. Это завоевано общественным мнением… Помню хорошо, — продолжал он своим уютным говорком, переводя глаза с одного разгоряченного лица на другое, — любопытную статью в «Отечественных записках» в прошлом году. Первый раз, когда прочел ее, даже и не понял сразу, показалось мне странным. Журнал либеральный, всем известной высокой репутации, печатает вдруг предложенье: непременно, наряду с классическими, открывать реальные гимназии, но тут же оговорку делает: но при одном условии, чтоб окончившие их не имели права, слышите ли, права не имели поступать в университеты! Так или не так, не путаю чего-нибудь? — обернулся он к Покровскому.
— Совершенно так, я сам, помню, крайне удивился.
— Ну-с, прочитал ее второй раз, — и понял глубокий смысл этой странности. Замыслена реальная гимназия уже давно, с преобладанием наук математических, физики, механики, географии, природоведения, ну, и так далее, за исключением классических языков. Но — выше идти нет права. Почему? Если б право на университет было дано кончающим его, как гимназистам, — что получилось бы? Не подсказывайте, не отвечайте, господин Покровский, я обращаюсь к молодым нашим спутникам, к учителям школы народной, — подумайте, подумайте хорошо, что тогда получилось бы?
Внимание, отвлеченное от Яна Ржиги, обратилось к загадке, поставленной Ульяновым. Кое-кто из читавших статью помнил ее лишь смутно и тщетно переспрашивал себя: а в самом деле, почему? Какой смысл создавать школу, как бы равносильную гимназии, но закрывать окончившим ее доступ в университет? Что-то там было мельком сказано, а вот ускользнуло из памяти…
Народные учители, все без исключенья, даже Новиков, статьи не читали. Из угла, где сидели они, раздались неуверенные голоса:
— Хорош либерализм!
— Одной рукой — открыть, а другой закрыть, так, что ли?
Ян Ржига, благодарный Ульянову за то, что тот вывел его из-под огня, глядел на инспектора с любопытством. Ему было явно интересно послушать, что же дальше?
А в Илье Николаевиче проснулся педагог. Карие глаза его заблестели. Он не хотел разъяснять, не хотел отвечать сам, — ему хотелось, чтоб его молодые слушатели сами нашли ответ. И он принялся еще более заинтересовывать их, тихонько наводя их мысль на этот ответ:
— Ну же, подумайте, господа! Скажу заранее, что говорившие тут насмешливо, с недоверием к либерализму «Отечественных записок», — заблуждаются, совершенно заблуждаются. Именно из желания пользы народной, из желания помочь крестьянской молодежи, освобожденным из крепости, приписавшимся к мещанству, словом, тем, кто имеет только начальное образование, — получить так называемое среднее. И широко получить, не единицами, а множеством, множеством желающих, — ну? Семен Иванович, вы ничего не скажете?
— Не вмещается что-то в голове, Илья Николаевич. Вы говорите — хотят пользу народу. А какая это польза, если сами требуют ограничения, лишения прав?
— Вы так хорошо вчера мыслили, — с огорченьем сказал Ульянов. — Помните, о диспропорции? А вот теперь пасуете, пасуете.
— Легче было бы ученье?.. Предметов меньше, языков не требуется, — в этом суть?
Илья Николаевич покачал головой. Он помедлил и опять обратился в Новикову:
— Реальная школа по объему знаний будет больше классической и образованья, на мой взгляд, больше даст. Совсем суть не в этом. Вот вы вчера диспропорцию отметили. Жизнь — одно, а учрежденье не соответствует уровню жизни. Такую диспропорцию можно во многом найти. Снять ее одному человеку не под силу, автору статьи тоже не под силу. А он хотел жизни помочь, хотел диспропорцию обойти, я больше скажу: в данном нашем случае, в статье своей, даже схитрить хотел — делу на пользу.
— Но где тут диспропорция?
— Возьмите гимназию. Можно в нее было вам попасть? Статистику вы знаете, что она такое, состав гимназистов — дворяне, зажиточных людей дети, так? Я сам, господа, с великим трудом попал в Астраханскую гимназию, я ведь сын мещанина, портного… — Илья Николаевич сказал это до того просто и до того как-то между прочим, без неловкости, без подчеркиванья, что всем стало очень просто слушать его и представлять себе человека в большом сравнительно чине, образованного, университет окончившего, — сыном портного, как дело естественное. Он продолжал: — Ну, в гимназию нам с вами попасть было трудно, мне посчастливилось, вам нет, — ведь желающих попасть в гимназию не только много. Для дворян и детей купцов, да и тех, кто имеет средства, гимназия как бы обязательна. Она для них этап в высшее образованье, и в нее не то что многие из них, — в нее, как правило, все идут. Теперь представьте себе другое учебное заведение — с такими же, повторяю — такими же правами, как гимназия…
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
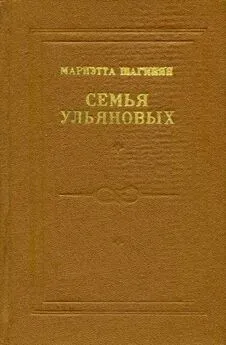

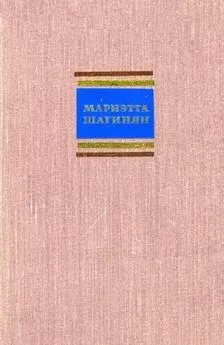
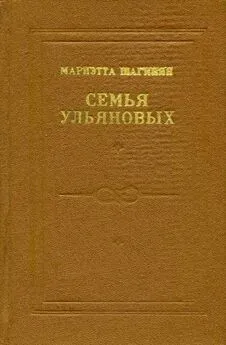
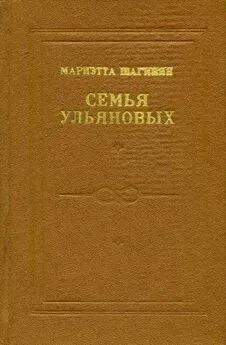
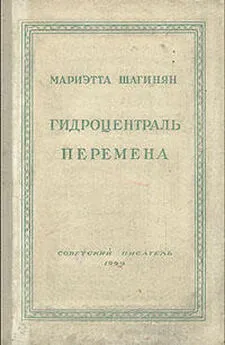

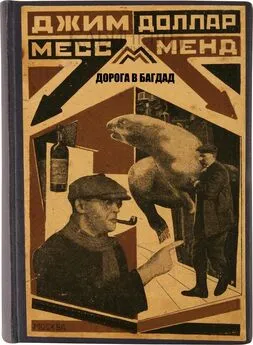
![Мариэтта Шагинян - Месс-Менд, или Янки в Петрограде [Советская авантюрно-фантастическая проза 1920-х гг. Том XVIII]](/books/1085114/marietta-shaginyan-mess.webp)