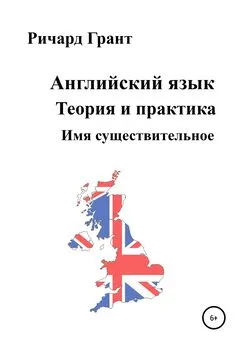Михаил Алексеев - Хлеб - имя существительное
- Название:Хлеб - имя существительное
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Алексеев - Хлеб - имя существительное краткое содержание
« В каждом - малом, большом ли - селении есть некий "набор " лиц, без которых трудно, а может, даже и вовсе невозможно представить себе само существование селения. Без них оно утратило бы свою физиономию, свой характер, больше - свою душу. lt; gt;
Мне захотелось рассказать о таких людях одного села и уже в самом начале предупредить читателя, что никакой повести в обычном ее смысле у меня не будет, ибо настоящая повесть предполагает непременный сюжет и сквозное действие, по крайней мере, основных ее героев. Ни того, ни другого в этой книге не будет. Не будет и главного персонажа, как полагалось бы в традиционной повести. Все мои герои в порядке живой, что ли, очереди побывают в роли главного и второстепенного. »
Помотивам одной из новелл повести М. Алексеева «Хлеб - имя существительное» режиссер Николай Москаленко в 1968 году снял фильм «Журавушка» с Людмилой Чурсинойв главной роли.
Хлеб - имя существительное - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Возле могилок столпились пожилые женщины. Там прямо на земле, на скатерках, разложена снедь. В окружении закусок – бутылка либо с водкой, либо с самогоном, – гонят его все-таки потихоньку! – либо с настойкой. Попик переходит от одной могилки к другой. Дряхленький, поддерживаемый под руку, он поет что-то, а закончив петь, угощается, выпивает чарку. Через некоторое время голос его, и без того слабый и немощный, становится еле слышным, а потом и вовсе неразличимым. На синем, сморщенном лице четко выделяется большой, красный, увлажнившийся от холода и великого усердия нос. На общую панихиду попа уже не хватает. Женщины видят это и, лукаво перемигнувшись, подымают священника на руки и несут в телегу. Там они закутывают его хорошенько, осеняют крестным знамением и с богом отправляют домой. Видя, как охотно они это сделали, я спрашиваю Дорофеевну:
– Во всех почти избах нет икон. И вдруг эти поминки с попом. Зачем это?
– А так. По привычке, – быстро отвечает она.
Спровадив попа, старухи мгновенно оживляются, словно бы только этого и ждали. Отовсюду слышится:
– Угощайтесь, бабоньки!
– Помянем стариков!
– Царство им Небесное!
– Хорошие были люди!
– Не дожили, родимые!..
– А вы не стесняйтесь. Пейте!
Оставшуюся закуску женщины увязывают в платки, в рушники и покидают кладбище. Однако не расходятся по своим домам, а, разбившись на компании явно по родственному и территориальному признаку, направляются в заранее намеченные избы, где и продолжаются поминки.
Мы с Дорофеевной – разумеется, на паях (пригодился-таки ее узелок!) – тоже были приняты в одну из компаний и вскоре оказались в небольшой избе, в которой проживали восьмидесятилетняя Федора Горелова, ее невестка Галина да две маленькие внучки. Гостей принимала Федора – величественная, с суровыми, строгими глазами старуха. Невестки не было: хлопотала на птицеферме – это ее питомцы белым ручьем стекали с высокой горы в Десну. Внучки, светло-русые и темноглазые, держали по одному большому яблоку. По красным губам их еще струился, капая на мокрые подбородки, прозрачный белый яблочный сок. Девочки с неудержимым любопытством наблюдали за всем, что происходило в их доме.
А происходило вот что.
Женщины, перебрасываясь шутками да прибаутками, развязали узлы, извлекли из них содержимое – вскоре стол уже не мог поместить всего, что было упаковано в этих узлах: тут и оладьи, и пироги с капустой, и блины, и жареная свинина, и, конечно, сало свиное во всех видах, а у края стола тесной гурьбой столпились разнокалиберные бутылки. Шутки да прибаутки были бы, вероятно, более энергичными и острыми, кабы не присутствие гостя из Москвы. Однако известная сдержанность была кратковременной. Вначале старухи предупредили друг друга, что на поминках не чокаются, и первую рюмку выпили при полном молчании. Но уже при следующей чарке в немом согласии забыли об этом обязательном условии.
– За тебя, Федора!
– За тебя, Дорофеевна!
– За твое здоровье, кума!
Все и все вдруг поравнялись и поравнялось. Забыт московский гость, забыт батюшка, да и сами поминки теперь больше походили на свадьбу: началось обыкновеннейшее гулянье.
Я все еще ждал, что старухи начнут ворчать, жаловаться: ведь на то они и старухи, чтобы ворчать да жаловаться. И когда, не дождавшись, сказал им об этом, они сначала рассмеялись, потом немало подивились тому, как могло прийти в голову такое, а под конец самая веселая из них, Матрена Дятлова, объявила:
– Это на что же нам жаловаться-то? Может, на то, что свет провели во все наши избы?
И тут началось! Старухи поднялись со своих мест и сердито выкрикивали:
– А может, на то, что к самым нашим домам вода пришла?..
– Дети и внуки по-городскому обуты и одеты!..
– Креста, что ли, на нас нет, чтобы жаловаться!..
– Нас сызмальства приучили не жаловаться...
Высказавшись таким образом, старухи оглянулись вокруг, остановили осуждающий взгляд на самой молодой из присутствующих, на тридцатипятилетней Аннушке Сулимовой. Матрена Дятлова сказала:
– Это вот они, молодые, ворчат да жалуются.
– Правда, бабоньки, правда! – поддержала Матрену Горелова Федора.
– То клуб им тесен, то кино не каждый день бывает, то артисты редко приезжают...
– Женихов, вишь, не хватает!
– Прошлого-то они и не знают.
– Откуда же им знать, как жили в старину люди?..
Веселая Матрена умолкла и вдруг стала неузнаваемой: куда-то исчезла ее веселость, глаза расширились и глядели далеко-далеко. Что они видели сейчас, эти старые, много повидавшие на своем долгом веку глаза? Может быть, то, как однажды в лютую зимнюю пору совсем еще молоденькая Матреша, только выданная замуж, подымалась с полными ведрами на коромысле от реки на высокую гору, как поскользнулась, в кровь разбила лицо и руки? Или то, как поздней осенью, когда у краев река уже схватывается ледком, стоит она по грудь в студеной воде и выбрасывает на берег тяжелые, мокрые снопы конопли? Или то, как сидит день-деньской за самодельным ткацким станком и ткет холст: как же много требовалось его для большой семьи! Неожиданно Матрена улыбается и говорит:
– А помните наши посиделки от зари до зари? Соберемся, бывало, у подруги со своими прялками и сидим прядем, поем песни. И парни с нами – страсть озорные. Керосину не хватало – лучину зажжем. И не жаловались. Весело было. А парни-то, парни-то какие были в нашу-то пору – огонь! Не то что ныне...
– Как же не весело! Надо бы веселее, да некуда! – вздыхает Федора и при полном молчании гостей тихо и печально повествует: – Коноплю надо сначала посеять. Вырастет она, милые, лес лесом – дергали вручную. Сначала посконь, а позже – всю остальную. Рученьки-то в кровавых мозолях, по ночам зудят, глаз не дают сомкнуть...
– А мочка конопли в ледяной воде?
– А кострика туча тучей, дышать, бывало, нечем?
– Весело, что и говорить!
Матрена Дятлова смущенно улыбается:
– Ладно уж. Что было, то быльем поросло. Но ведь не жаловались?
– А кому? Кому пожалуешься-то? – грозно и сурово спрашивает Федора, и все вновь умолкают.
Я смотрю на эту величественную старуху. Ее словно бы прорвало, и она говорит, говорит:
– Росла я, сами знаете, сиротой. Сызмальства в людях горе мыкала – сколько одних побоев вынесла! Замуж выдали чужие люди. Бил он меня смертно, бил – и сам, поди, не знал, за что. А что поделаешь, кому скажешь про беду свою? Скажешь, тебя же осудят, ославят на все село. А ведь у меня сердце не камень, ведь и я любила, думала о счастье. Да не далось оно мне в руки, счастье это...
Федора не сидит со всеми вместе за поминальным столом: она хозяйка, ее дело – смотреть за гостями, пополнять закуски, поглядывать на шесток, где, одна сковородка сменяя другую, жарится сало, яичница. Сейчас старуха стоит, высокая и гордая в скорбном своем воспоминании, стоит недвижно над столом, чуть склонив седую голову. У ее подруги, Дорофеевны, губы подрагивают, глаза увлажняются. Дорофеевна отворачивается и концом платка прикрывает лицо. А я вспоминаю ее недавний рассказ:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
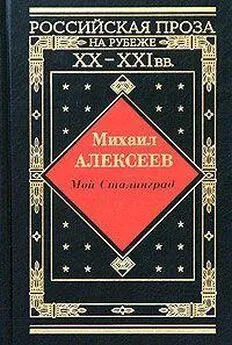

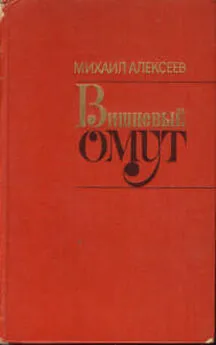
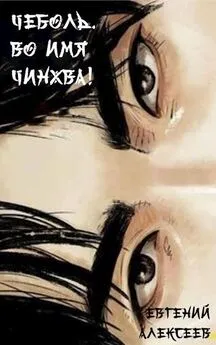
![Михаил Алексеев - Стилет для «Тайфуна» [litres]](/books/1058334/mihail-alekseev-stilet-dlya-tajfuna-litres.webp)
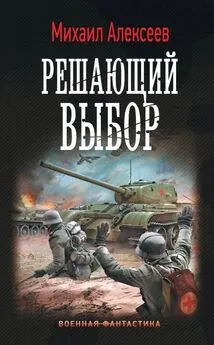

![Евгений Алексеев - Чеболь. Во имя Чинхва 2! [СИ]](/books/1146390/evgenij-alekseev-chebol-vo-imya-chinhva-2-si.webp)