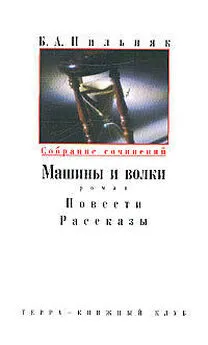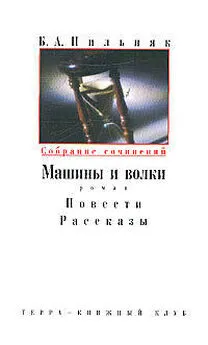Борис Пильняк - Том 3. Повести. Рассказы. Корни японского солнца
- Название:Том 3. Повести. Рассказы. Корни японского солнца
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Терра - Книжный клуб
- Год:2003
- Город:Москва
- ISBN:5-275-00834-1, 5-275-00727-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Борис Пильняк - Том 3. Повести. Рассказы. Корни японского солнца краткое содержание
Борис Андреевич Пильняк (1894–1938) — известный русский писатель 20–30 годов XX века, родоначальник одного из авангардных направлений в литературе. В годы репрессий был расстрелян. Предлагаемое Собрание сочинений писателя является первым, после десятилетий запрета, многотомным изданием его наследия, в которое вошли, в основном, все восстановленные от купюр и искажений произведения автора.
В третий том Собрания сочинений входит повести «Заволочье», «Большое сердце», «Китайская повесть», «Китайская судьба человека», «Корни японского солнца» и рассказы.
К сожалению, часть произведений в файле отсутствует.
http://ruslit.traumlibrary.net
Том 3. Повести. Рассказы. Корни японского солнца - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— не хорошо прийти в дом, в тот дом, где твои соотечественники убили человека… — я проснулся на рассвете под пение петухов, в доме Тития-сана. Вчера я написал Тития-сану — кисточкой, тушью — какэмоно о наднациональных культурах и о братстве, — а сейчас в этот соловьиный рассвет я думал о том, почему соловьиный этот рассвет похож на наш русский, — но говорим мы, люди, по-разному, когда птицы говорят одинаково…
Я тихо поднялся, раздвинул сьодзи: над землей творился фарфоровый японский рассвет, роса тяжелыми гроздями умыла цветущее дерево магнолии, и магнолии пахнули, как подобает, мертвецами. В кимоно, я всунул босые ноги в гэта, в деревянные скамеечки, на которых ходят японцы, и — один, без друзей и полиции, пошел к горам повстречаться с рассветом. Рядом шумел ручей, внизу, под обрывами клокотала река. Каменной лесенкой я пришел в рощицу азалий, сгорающих красною тяжестью своих цветов. Каменная тропинка вела на кладбище. За мной никто не следил, кажется, единственный раз в Японии. Вдалеке дымился вулкан, направо и налево уходили горы, рядом со мною были рисовые поля. И глубокая была тишина. На кладбище в печали я смотрел на мисочку с рисом и на палочки, которыми едят, положенными около могилы, — и около другой могилы лежал ошейник: японцы хоронят и людей и животных вместе. Кладбище заросло печалью бамбуков. Около кладбища стоял храмик — величиной с нашу собачью будку, не больше. Я посидел у храма, покурил и пошел дальше, к платановой роще, без дороги, кустарниками. И там я увидал таинственнейшее в природе человека: в чаще деревьев около храмика стояла женщина, женщина обнимала клиноподобное каменное изваяние, лицо ее было восторженно. Она молилась, какому богу — я тогда не знал. Я понял, что я присутствую при таинственнейшем. Я не стал мешать женщине, этой женщине в бабочкоподобном оби, японском поясе, на деревянных скамеечках, с непонятною для меня красотою лица. — И тогда еще я думал, что надо написать рассказ, как Япония — затянула, заманила, утопила, забучила иностранца, точно болото, точно леший, что ли: — всем сердцем я хотел проникнуть в душу Японии, в ее быт и время, — я видел фантастику быта, будней, людей — и ничего не понимал, не мог понять и осмыслить, — и понимал, что вот эта страна, недоступная мне, меня засасывает, как болото, — тем ли, что у нее на самом деле есть большие тайны, — или тем, что я ломлюсь в открытые ворота, которые охраняются полицией именно потому, что они пусты. Та тема, которую ставили себе все писатели, побывавшие в Японии, тема о неслиянности душ Востока и Запада, о том, как человек Запада засасывается Востоком, деформируется, заболевает болезнью, имя которой «фебрис ориентис», что ли, — и все же выкидывается впоследствии Востоком, — эта тема была очередною и у меня.
Потом, после того рассвета, были еще дни в солнце, ветре, в цветущей земле, — в пути по горам и в бегах от полиции. Все эти дни я жил, пил и ел по-японски, — и все эти дни я хотел по-японски думать и видеть. — Горные тропинки и горные трактиры — всегда прекрасны. У Янагисава-сан мы рассматривали японскую старину, и он подарил мне наконечники от древних стрел, еще айноских, кремневых, — и он водил меня на свои раскопки, к памятнику айну, древнего народа, населявшего Японию: там были солнце, сосны и бодрый с океана ветер. — И он же показывал мне вишневое карликовое дерево, в поларшина величиною и в десятки лет от роду. — Очень долго, тониелями, мостами через пропасти, прекраснейшими пейзажами — от заполдней до вечера поездом — мы ехали в Камисуа, к минеральным источникам, к гейзерам. Все было, как следует: на станции встретил шпик, сопровождавший ину передал нас ему; — в гостинице было много народу; — из гостиницы, когда открыты шодзи, видны бассейны, где купаются люди в воде, выброшенной гейзером, мужчины и женщины, ничем не разделенные. За день было очень много солнца, пути и раздумий, — и мы заснули под рожок продавца бэнто, ужина для бедняков, и под пение за стеной гейш. Утром мы ели рис, суп из морских водорослей и соленые сливы. Опять, как всегда, была сумятица, когда гадит полиция и когда не говорят нет, которое надо подразумевать. Предполагалось, что с самого раннего утра мы поедем в горы, к хуторянину, на шелководческую плантацию, — и время потащилось клячей. Я ходил бриться и на выставку местной промышленности (в Японии — на каждом перекрестке и к каждому случаю — выставки), смотрел на выставке, как бегает игрушечная железная электрическая дорога. А когда вернулся, меня уже ждала машина с врачом одной из местных шелкопрядильных фабрик.
Мимо озера мы поехали на фабрику. Как подобает, нас поили в конторе чаем.
Шелкопрядильное производство, выварка и размотка коконов, скручивание прядей — общеизвестны. Нигде нет такой чистоты, как в Японии, — и абсолютная чистота была на этой фабрике, куда работницы и мы входили, сняв башмаки, в одних чулках: — и на фабрике, на всей фабрике не было ни одного места, где человек был бы хоть на момент один сам с собою, — уборные построены посреди двора и так, что там все видно: — это и потому, что у японцев не стыдятся физических человеческих отправлений, и к тому, чтоб прядильщица не могла побыть одной, не могла б потихоньку прочитать и написать письма, ибо все письма, приходящие из-за фабричного забора, перлюстрируются, ибо без разрешения администрации нельзя выйти за забор, ибо эта японская фабрика больше походила на тюрьму, где девушки запроданы на два, три года. Прядильщицы сами о себе поют такую песню:
Если можно назвать прядильщицу человеком,
то и телеграфный столб может расцвести —
но дело сейчас не в этом. Полиция опоздала, прозевала нас. И тогда началась сумятица. Зарявкал автомобиль, — мы должны были ехать на хутор, но мы оказались в новой, не в той, где ночевали, гостинице, и тут же по непонятным причинам оказались наши чемоданчики; — мы совершенно недавно завтракали, а тут на столе оказался обед, которого есть мы не хотели и времени которому не было, — и, кроме нас, за столом на полу оказались посторонние люди, которых я не приглашал. Я ничего не понимал, а вежливость мне не позволяла перейти на истинно-русский язык. Все делалось и очень поспешно, и очень медленно, — и во всяком случае очень методично. Из-за стола, что вообще считается неприличным, меня вызвали на улицу (к озеру) фотографироваться.
И все это кончилось тем, что меня замертво везли на вокзал; в поезд, в Токио, — и, мучась отчаяннейшими болями в желудке, я хотел только одного: скорее приехать в тот дом, который я считал своим, чтобы говорить по-русски и быть среди своих соотечественников. Я не знаю, мне кажется, но утверждать я не могу, что меня отравила японская полиция, чтобы ликвидировать мною настырность в поисках деревенской Японии и японского быта, ключей к нему, — но так или иначе, без всяческих дураков, в поезде тогда я, в полубреду, думал уже не о том, как может заболачивать Восток, а о том, как выпирает он, выталкивает из себя пробкою из квасной бутылки; поминая Киплинга, я думал о том, что никогда человек Запада не проникнет в душу человека Востока, — и у меня ко всему — всяческая — пропадала охота. Так закончилась моя поездка на Синсю.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: