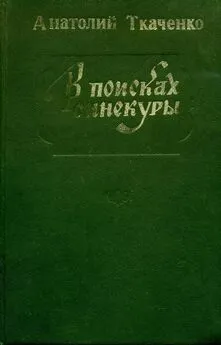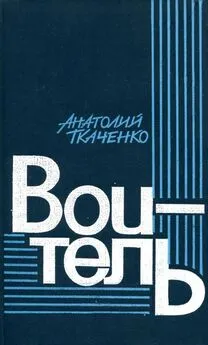Анатолий Ткаченко - В поисках синекуры
- Название:В поисках синекуры
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Современник
- Год:1985
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Анатолий Ткаченко - В поисках синекуры краткое содержание
Герои новой книги писателя Анатолия Ткаченко, известного своими дальневосточными повестями, — наши современники, в основном жители средней полосы России. Все они — бывший капитан рыболовного траулера, вернувшийся в родную деревню, бродяга-романтик, обошедший всю страну и ощутивший вдруг тягу к творчеству, и нелегкому писательскому труду, деревенский парень, решивший «приобщиться к культуре» и приехавший работать в подмосковный городок, — вызывают у читателя чувство дружеского участия, желание помочь этим людям в их стремлении к нравственной чистоте, к истинной духовности.
В поисках синекуры - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Потерян дом, но живы пока Соковичи. Просторна, жива земля, на которой можно построить новый дом. И главное — хуторяне приняли, полюбили нового жильца.
Он пошел известить их о смерти доктора Защокина. Федя Софронов еще не вернулся с работы, его шумная Соня гоняла кур по огороду, покрикивая Пете: «Так их, сынок! Вон ту, рябую, окрести палкой. Ах, старая проныра, завтра же в суп ощиплю!» Увидев Ивантьева, она опустила подол, прибрала волосы под косынку и стала рассказывать, что от милиционера Потапова пришла официальная бумага («Во, генерал! Не мог лично приехать!»), в которой предлагалось Феде сдать незаконный, запрещенный для личного хозяйства «тягловый транспорт — трактор «Беларусь».
— И как Федя? — спросил Ивантьев, уловив паузу в беспрерывном говоре Сони.
— А так! Мой Федя с характером. Сказал: «Японский бог! Пусть сам забирает, оприходывает, списывает... Живой механизм не погоню на металлолом!..» А вы, Евсей Иванович, проходите, самовар поставлю, скоро Федя должен приехать, он хотел поговорить про что-то с вами, а то ведь за огородами, хозяйством некогда в глаза друг дружке глянуть.
Ивантьев наконец сказал, зачем пришел, и из Сони выплеснулся еще более бурный поток слов; она всплакнула; она отругала сына и сноху Защокина, «гнилых интеллигентов», предложила сегодня же собраться и помянуть душевного, ученого человека Виталия Васильевича.
— Так это ж мы без головы остались! — удивленно и испуганно воскликнула Соня и тут же, схватив руку Ивантьева, тряся ее, прибавила, точно извиняясь: — Вы будете головой, мы вас уважаем, учимся у вас разумности.
Узнав, что Ивантьеву придется освободить дом, Соня просто задохнулась от негодования, пообещала составить общее письмо хуторян, дойти до Москвы, а выселить «тунеядцев-дачников» из Соковичей.
Дед Ульян и Никитишна, услышав слезливые выкрики Сони, вышли за калитку, присели на лавочку, ожидая Ивантьева. Подали свои заскорузлые ладошки, пригласили сесть, не торопя с разговором, явно почувствовав нехорошее, а когда Ивантьев сообщил им печальную новость, дед молча стащил кепчонку с головы, Никитишна поднесла к глазам платок. Десять лет они знали доктора, поили его молоком, слушали его житейские философствования, верили в его понимание их крестьянского труда, нуждались в нем — милом, мудром госте из огромной непонятной столицы; он как бы духовно связывал их со всем иным миром, и теперь они могли лишь глубоко, надрывно молчать, ибо не умели произносить громких слов, да и не полагались слова: хороший человек поминается в тишине; хороший человек и смертью своей очищает души живущих.
Не стал Ивантьев говорить им о доме. Дом — суета. Для дома, устройства будет иное время. И направился к Борискиным.
Илларион Макарович, как и положено хозяину в летнее время, не распивал самоварные чаи, не сидел в тенечке с газетой, а неспешно, но крайне озабоченно охаживал свой образцово-показательный двор: что-то подлаживал, что-то пристраивал, постукивая молоточком, заодно, конечно, обдумывая все прочие огородные и животноводческие проблемы. На, вопрос Ивантьева, все ли живы-здоровы, ответил, что жена уехала к сыну (понимай: на рынок, торговать лучком, редисом, ранней клубникой), а Анна — в потребкооперацию за продуктами, и присел на ступеньку чистого крыльца с краешку, показывая этим: можешь и ты присесть, если уж пришел, однако же рассиживаться особенно некогда — «летний день велик, да ценит его и кулик».
Смерть доктора Защокина он воспринял тоже по-деловому: настал, знать, срок, все там будем, хоть не в одно время, вечный покой — отдохновение за земную маету. И прибавил, помолчав, что-то прикидывая относительно жизни и смерти:
— Раньше говаривали: от бога человеку положено семьдесят лет, а что выше — божья милость. Немного милости досталось Виталию Васильевичу, но божье взял полностью. — Еще помыслил минуту, решил, очевидно, что уж больно строго рассуждает, смягчился: — Умственная работа все, нервная система... По себе знаю: фельдшерил, людей исцелял — сам больше своих пациентов хворал. И гайморит, и гастрит, и радикулит... Килограммами таблетки потреблял. Теперь, как видите, хоть и хил с виду, да жилист... Нагрузка физическая спасла... Советовал я Виталию Васильевичу постоянно жить в Соковичах, хозяйством посильным заняться. Десятка полтора божьей милости гарантировал ему. Да нет, глубоко в умственную работу погрузился. А человек он, что же, был исключительно интеллигентный, может, и благородного роду... Меня недолюбливал, но зла не делал. Пухом земля ему.
Борискин поднялся, считая разговор законченным, и Ивантьев не стал ему больше мешать: летом Илларион Макарович буквально не в себе от работы, смурной, даже слегка малохольный, смерть Защокина, все прочие великие и малые события он обдумает в позднее осеннее и спокойное зимнее время. Уже идя по улице, Ивантьев вспомнил изречение доктора о Борискине: «Иван Калита — денежный мешок: хитрый, живучий». Не чувствуется вроде бы особой неприязни в этих словах. Скорее всего, не нравилась Защокину излишняя, жестковатая жадность Иллариона Макаровича, ставшая в наши дни неким атавистическим пережитком.
Соседка Самсоновна встретила его у своей калитки, нетерпеливо выжидая, сразу повела в дом, усадила за стол с пыхтящим жарким самоваром — по-видимому, заранее и для него поставленным, — налила чашку кипятка, круто заварила, пододвинула сахарницу, полную любимого ею рафинада, и только после всего этого кротко сказала: — Пей чаек, Евсеюшка.
Ее необычная тихость, даже унылость до растерянности удивили Ивантьева, он подумал, что старуха или почувствовала недоброе, или слыхала причитания Сони Софроновой. Ему захотелось просто посидеть, отдохнуть, а потом уж поговорить о смерти доктора. Но старуха, уставив на него черные, тяжко притушенные сырыми напухшими веками глаза, негромко спросила:
— Што помалкиваешь? Умер Защока?
Ивантьев кивнул, отводя взгляд и вздыхая с грустным облегчением: хоть здесь не пришлось быть вестником горькой печали.
— Я видела, как ты энтих красивых провожал, московских, сразу догадалась: беда с нашим Защокой. Одни не приезжали, одним дом не доверял, при нем иной раз гостили... Ой, думаю, это ж они права предъявлять явились! Хотела сразу пойти к тебе, да плита топилась, а плита у меня летняя, знаешь какая, двор спалит. Пришла вскоре — ты вроде спишь, не стала тревожить. А догадалась, поняла. И по лицу твоему прочитала: кончился наш Защока.
Ивантьеву вспомнилось: двадцать второго мая Самсоновна отмечала Николин день — престольный праздник Соковичей. Хоть и была она родом из приокской, спаленной в войну деревеньки, но святого заступника приняла местного, раз уж тот, свой, не уберег ее жилища. Сходила в церковь, испросила у Николы теплого, с дождичками лета, напомнив ему о немилосердной зиме (мол, испытывать испытывай, но и совесть знай!), поставила свечки от каждого жителя Соковичей, истратив два рубля сорок копеек, помолилась во здравие живущих, за упокой умерших, а вернувшись, тут же разнесла хуторянам просфору — кусочки освященного белого хлебца; всех крестила легко и размашисто, не отказалась взять по двадцать копеек за свечку, говоря при этом: «Защока тоже отдаст, завсегда отдает. Приедет, первым делом спросит: свечку ставила? А как же, отвечаю, хоть и профессур, а не могу обидеть, душа живая. Смеется, отсчитывает мелочь, норовит с задатком еще... Нельзя, говорю, богу ставим — не себе». Ивантьев уже привычно подумал: как много в каждом русском намешано! Ведь и он не отругал Самсоновну за самовольную свечку, и просфору взял, и дал себя перекрестить, будучи неверующим. Почему? И не объяснить толком. Из боязни, пожалуй, обидеть старуху, из почтения к веровавшим предкам — и дед и прадед ставили свечки святому Николе, — из неизжитого начисто суеверия, цепкого особенно в моряках, людях, близких к природе: она сильна еще, не разгадана в нас и вовне. Полное освобождение — в будущем, если вообще таковое освобождение возможно.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: