Николай Ляшко - Живая вода. Советский рассказ 20-х годов
- Название:Живая вода. Советский рассказ 20-х годов
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Красный пролетарий
- Год:1981
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Николай Ляшко - Живая вода. Советский рассказ 20-х годов краткое содержание
Лучшие рассказы советских писателей, созданные в 1920-е гг., отразили эпоху революции, эпоху ломки старого и зарождения нового мира. Предлагаемый сборник представит читателю прозу крупнейших советских писателей и даст возможность увидеть богатство манер и стилей, характерных для литературы тех лет. Все эти произведения, интересные с точки зрения отражения определенного периода истории нашей литературы, имеют непреходящую художественную ценность.
http://ruslit.traumlibrary.net
Живая вода. Советский рассказ 20-х годов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— Деньги-то ты где набрал?
— Которые украл, которые па торговле нажил.
— Чем же ты торговал?
— Сигаретками, папиросами, а то слимоню што, так этим.
— Ну, хахаль! — подивился комендант. — Родители-то у тебя где?
— Папашку в ерманску войну убили, мамашка других детей народила. Да с новым-то и с детями за хлебом куды-то уехали, а меня в мериканский поезд пристроили.
И снова ясным сиянием глаз встретил тусклый взор коменданта. Тот головой покачал. Хотел сказать: «Пропащий». Но свет глаз Тришкиных остановил. Усмехнулся и подбородок почесал.
— Что ж ты у Колчака делал?
— Ничего. Записался да убег.
— Так ты красной партии? — вспомнил комендант.
— Краснай. Дозвольте прикурить.
— Бить бы тебя за куренье-то. На, прикуривай. Сколько лет тебе?
— Четырнадцатый, в Григория-святителя пошел.
— Святителей-то знаешь? А поминанье зачем у тебя?
— Папашку записывал. Узнает — на небе-то легче будет. Мать забыла, а Гришка помнит.
— А ты думаешь, на небе?
— Ну а где? Душе-то где-нибудь болтаться надо. Из тела-то человечьего вышла.
Комендант снова потускнел.
— Ну, будет! Задержать тебя придется.
— В тюрьму? Ладно. Кормлют у вас плоховато… Ну, ладно. Посидим. До свиданьица.
Гришку долго вспоминали в чеке.
Из тюрьмы его скоро вызвала комиссия по делам несовершеннолетних. В комиссии ему показалось хуже, чем в губчека.
Там народ веселый. Смеялись. А тут все жалели, да и доктор мучил долго.
— И чего человек старается? — дивился Гришка. — И башку всю размерил, и пальцы. Либо подгонял под кого? Ищут, видно, с такой-то башкой…
Нехорошо тоже голого долго разглядывал. В бане чисто отмыли, а доктор так глядел, что показалось Гришке: тело грязное. Потом про стыдное стал расспрашивать. Нехорошо. Видал Гришка много и сам баловался. А говорить про это не надо.
Тошнотно вспоминать. И баловаться больше неохота. Когда от доктора выходил, лицо было красное и глаза будто потускнели.
Разбередил очкастый.
По вечерам в приюте с малолетними преступниками был опять весел. Пищу одобрил.
— Это, брат, тебе не советский брандахлыст в столовой. Молока дали. Каша сладкая. Мясинки в супу. Ладно.
Ночью плохо было. Мальчишки возились, и «учитель» покрикивал. Чем-то доктора напомнил. Гришка долго уснуть не мог.
Дивился:
— Ишь ты! От подушки, видать, отвык. Мешает.
И всю ночь в полуяви, в полусне протосковал. То мать виделась. Голову гребнем чешет и говорит:
— Растешь, Гришенька, растешь, сыночек! Большой вырастешь, отдохнем. Денег заработаешь, отца с мамкой успокоишь… Родненький ты мой!
И целует.
Чудно! Глаза открыты, и лампочка в потолке светит. Знает: детский дом. Никакой тут матери нет. А на щеке чуется: поцеловала. И заплакать охота. Но крякнул, как большой, плач задержал и на другой бок повернулся. А потом доктор чудился.
Про баб вспоминал. Опять тошнотно стало. Опять защемило.
Молиться хотел, да «отчу» не вспомнил. А больше молитвы не знал. Так всю ночь и промаялся.
Пошли день за днем. Жить бы ничего, да скучно больно.
Утром накормят и в большую залу поведут. Когда читают. Да все про скучное. Один был мальчик хороший, другой плохой…
Дать бы ему подзатыльник, хорошему-то! А то еще учительши ходили:
— Давайте, дети, попоем и поиграем. Ну, становитесь в круг.
Ну и встанут. В зале с девчатами вместе. Девчата вихляются и все одно поют: про елочку да про зайчика, про каравай.
А то еще руками вот этак разводят и головой то на один бок, то на другой.
Где гнутся над омутом лозы…
Спервоначалу смешно было, а потом надоело. Башка-то ведь тоже не казенная. Качаешь ей, качаешь, да и надоест. Лучше всего был «Интернационал»! Хорошее слово, непонятное. И на больших похоже. Это, брат, тебе не про елочку!
Вставай, проклятьем заклейменный…
Хорошо! А тоже надоело. Каждый день велят петь. Сам-то, когда захотел, попел. А когда и не надо. Все-таки за «Интернационал» Жорже корявому морду набил. Из буржуев Жоржа.
Тетя какая-то ему пирожки носит. Так вот говорит раз Жоржа Гришке:
— Надо петь: весь мир жидов и жиденят.
А Гришка красной партии. Знает: и жиды люди. Это Советскую власть ими дрязнят. Ну и набил морду Жорже. С тех пор скучно стало. За советскую власть заступился, а старшая тетя Зина и Константин Степаныч хулиганом обозвали. А как белье казенное пропало, их троих допрашивали. Троих, воры которые были. Гришка дивился:
— Дурьи башки! Чего я тут воровать стану? Кормят пока хорошо. Что, что воры? Сам украдешь, коли есть нечего будет.
Вот сбегу, тогда украду.
Крепла мысль: сбежать. Скучно, главное дело. Мастерству обещали учить — не учат. Говорят, инструменту нет. А эту «пликацию» из бумаги-то вырезывать надоело. Которую нарезал и сплел, всю в уборную на стенке налепил и карандашом подписал: «Тут тебе и место сия аптека для облегченья человека Григорий Песков».
Писать-то плохо писал, коряво, а тут ясно вывел. С того дня невзлюбили его воспитатели. И не надо. Этому рыжему, Константину Степанычу, только бы на гитаре играть да карточки снимать. Всех на карточки переснимал, угрястый! Злой. Драться не смеет, а глазами, как змея, жалит. Глядит на всех — чисто нюхает: что ты есть за человек. Сам в комнате в форточку курит, а ребятам говорит:
— Курить человеку правильному не полагается.
Куренье — дело плевое. Вот сколько не курил. Отвык, и не тянет. А как заведет Константин Степаныч музыку про куренье да начнет вынюхивать и допрашивать, кто курил, — охота задымить папироску. А тетя Зинд всех голубчиками зовет. По головке гладит. Липкая. Самой неохота, а гладит. И разговорами душу мотает.
— Это нехорошо; голубчик! Тебя пригрели, одели, это ценить надо, миленький. Пуговки все застегивать надо и головку чесать. Ты уже большой. Хочешь, я тебе книжечку почитаю?
А ты порисуй.
Ведьма медовая! Опять же анкетами замаяла. Каждый день пишут ребята, что любят, чего не любят, чего хотят и какая книжка понравилась. И тут Гришка ее обозлил. В последний раз ни на какие вопросы отвечать не стал, а написал: «Анкетов никаких нилюблю и нижалаю».
Побелела даже вся. А засмеялась тихонечко, губы в комочек собрала и протяжно так да тоненько вывела:
— У-у, а я тебя не люблю! Такой мальчик строптивый.
Ну и не люби. Жоржу своего люби. Тот все пуговки застегивает, и листочек разлинует, и на все вопросы, как требуется, отвечает. А как спиной повернется, непристойное ей показывает.
Девчонки все пакость. У тети Зины научились тоненькими голосами говорить и лебезят, лебезят. А потихоньку с мальчишками охальничают. Манька с копей — ничего. Песни жалостные поет и книжку читать любит. Но и с ней Гришка не разговаривает. Боится. Нагляделся на девчонок-то и не любит их. Никого Гришка не любит. И опротивело все: и спальни с одинаковыми одеялами, и столовая с новыми деревянными столами. Бежать!
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
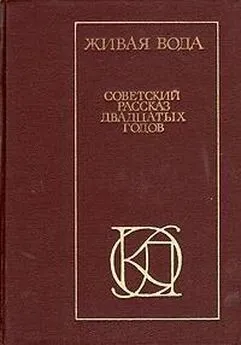


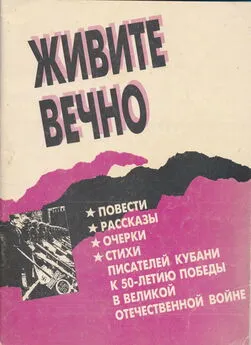
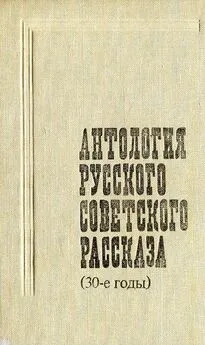
![Дмитрий Мамин-Сибиряк - Живая вода [Рассказы]](/books/1061784/dmitrij-mamin-sibiryak-zhivaya-voda-rasskazy.webp)


