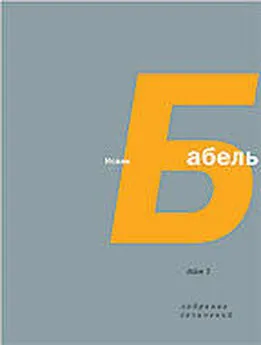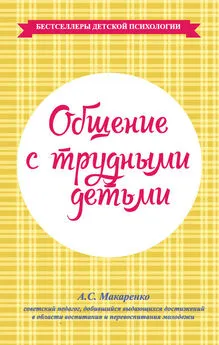Антон Макаренко - Том 7. Публицистика. Сценарии
- Название:Том 7. Публицистика. Сценарии
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Педагогика
- Год:1984
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Антон Макаренко - Том 7. Публицистика. Сценарии краткое содержание
В седьмой том настоящего издания вошли публицистические работы А. С. Макаренко, его статьи о детской литературе и писательском труде, литературно-критические выступления, рецензии, киносценарии.
[В данном электронном варианте часть работ правлена по изданию Гётц Хиллиг. «Святой Макаренко». Марбург, 1984]
http://ruslit.traumlibrary.net
Том 7. Публицистика. Сценарии - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
А. Н. Толстой проходит мимо этих процессов эпохи. В слишком сгущенных красках он отмечает дворянское оскудение, преувеличивает боярское богатство и его стремление к роскоши. Иногда он сам себе противоречит. Он подробно и красочно описывает оскудение дворянина Волкова, последнее отчаяние Михайлы Тыртова, но вот они едут в Москву на смотр.
«Михайла сидел насупившись. Их обгоняло, крича и хлеща по лошадям, много дворян и детей боярских, в дедовских кольчугах и латах, в новопошитых ферязях, в терликах, в турских кафтанах, — весь уезд съезжался на Лубянскую площадь, на смотр, на земельную верстку и переверстку. Люди, все до одного, смеялись, глядя на Михайлова древнего мерина: „Эй, ты — на воронье кладбище ведешь? Гляди, не дойдет“… Перегоняя, жгли кнутами — мерин приседал… Гогот, хохот, свист… Приходилось принимать сраму…»
Таким образом, не все дворяне так оскудели, как Тыртов и Волков. К сожалению, А. Н. Толстой ограничивает свои наблюдения исключительно старой Московской областью. Для конца XVII в. было как раз характерно распространение дворянского и монастырского землевладения на восток и на юг России. Это было время построения многих новых городов на Волге и на юге. К концу века население востока, Приволжья и Прикамья составляло уже около 20% общего населения России, население юга 17,5% и население запада 21%.
Центральная Московская область сделалась объектом разгрузки. По старой традиции А. Н. Толстой видит эту разгрузку только в побегах крестьян на Дон, в разбойничьи шайки: существеннее было бы отметить организованный отлив населения на восток и юг, совершаемый под дворянским предводительством.
Но А. Н. Толстой вообще не интересуется дворянством. Он не замечает того интересного факта, что только дворянство организованно не выступало против Петра. Писатель не побывал в дворянской усадьбе, не показал ее читателю, ограничился только общим утверждением относительно оскудевшего дворянина и запоротого крестьянина. Он также не освятил отношение между дворянином и крестьянином, которое вовсе не было похоже на отношение после Екатерины II, — крепостное право еще не сделалось рабовладением, только развивалось в направлении к нему.
Не заметил А. Н. Толстой, что не только купечество, но и дворянство было опорой петровской реформы. Только поэтому Меншиков начинает свою карьеру в романе с беспризорничества, а между тем есть все основания утверждать, что его биография ни в какой степени не начинается с деклассированного бродяжничества. Скорее всего и вероятнее всего прав С. М. Соловьев, который приводит данные, показывающие, что отец Александра Меншикова был дворянином, что по обычаям того времени могло не мешать ему занимать должность придворного конюха. Во всяком случае, кажется, он был капралом Преображенского полка. Точно так же и торговля пирожками (факт, достаточно установленный в биографии Меншикова) не обязательно обращает его в беспризорного, это характерно для ХХ в., но не для XVII в.
А. Н. Толстой пропустил в своем анализе самый состав Преображенского и Семеновского полков, он почти не изображает людей этих полков, не описывает настроение солдат, их отношение к Петру. А между тем Преображенский и Семеновский полки были главными силами в петровских руках, они давали от себя ростки во все другие новые полки Петра, они доставляли для них командный состав, они не изменили ему ни разу и ни разу нигде не отступили. Под Нарвой только эти два полка не ударились в панику и отступили с оружием в руках и в полном порядке. Они пользовались со стороны Петра всегда неизменной любовью; преображенский мундир был его любимым платьем, преображенские майоры всегда были самыми доверенными лицами, которым поручалось расследование самых важных государственных преступлений. А Преображенский и Семеновский полки были полки дворянские по преимуществу. А. Н. Толстой послушно следует за презрительным прозвищем, которое присвоено было этим полкам их противниками, партией Софьи, — «преображенские конюхи», а между тем это прозвище удостоверяет только силу сарказма, которым партия Софьи несомненно обладала и которым в данном случае она пользовалась, чтобы подчеркнуть свое боярское презрение к петровским сподвижникам.
Не заметив дворянства как основной опоры Петра, А. Н. Толстой, естественно, не заметил и тех линий раздела, которые проходили между партией Нарышкиных и партией Милославских, возглавляемых Софьей. И в данном вопросе он пошел за исторический традицией, которая только одному Петру приписывала почин реформы, а его противников изображала как представителей застоя и реакции. Правда, он отмечает культурное западничество В. В. Голицына, но подчеркивает его нереальный, мечтательный характер. Софья же в его изображении выступает как тип старого времени, преданная исключительно своей женской любви, в ослеплении этой любовью способная и на кровь, и на жестокость. Увидев Василия Васильевича во французском платье, она говорит: «Смешно вырядился… что же это на тебе — французское? Кабы не штаны, так совсем бабье платье…»
По отношению к Петру она проявляет только злобу, боярскую спесь, бабскую несправедливую клевету:
«Весело царица век прожила и с покойным батюшкой, и с Никоном-патриархом не мало шуток было шучено… Мы-то знаем, теремные… Братец Петруша, государь наш, — прямо — притча, чудо какое-то, — и лицом и повадкой, ну, — чистый Никон».
Все это исторически неверно. В этих словах клевета и на Петра и на Софью. Таких слов она говорить не могла. Никон отправился в ссылку в декабре 1666 г., а царь Алексей женился на Наталье Кирилловне в январе 1671 г., Петр же родился еще позже — 30 мая 1672 г., через пять с половиной лет после ссылки Никона. Если же принять во внимание, что Никон удалился с патриаршества и разорвал с царем Алексеем в 1658 г., то расстояние между удалением Никона и инкриминируемым ему преступлением увеличивается до 14 лет. Поэтому никаких шуток Настасья Кирилловна Нарышкина шутить с патриархом не имела возможности.
На самом деле Софья была замечательной женщиной и замечательным деятелем своего времени. Это был просвещенный человек, прогрессивно мыслящий, сумевший разбить тюремные камни и выйти на свободу, способный управлять государством и управлявший им по-своему неплохо. Между прочим, Софье должна быть приписана честь уничтожения зверского закона, по которому женщина, убившая мужа, закапывалась живьем в землю, и Сидней и Петр уже не имели возможности говорить о такой жестокости. Переворот 1689 г., передавший власть в руки Петра, вовсе не был переворотом в пользу реформы и не выступал под таким лозунгом. В то же время он едва ли был ответом на кровожадные планы Софьи и Шакловитого: пристрастный розыск в Троице и тот не мог подтвердить это до конца. Скорее можно предположить, что выступление Нарышкиных было агрессивным выступлением, направленным к захвату власти и не мотивированным никакими реформаторскими замыслами.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: