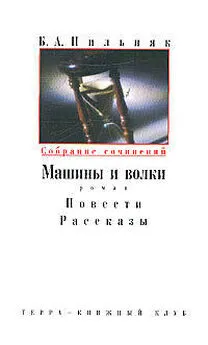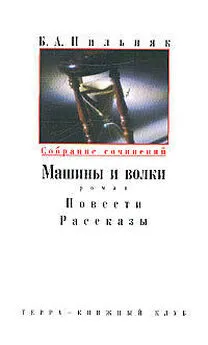Борис Пильняк - Том 2. Машины и волки
- Название:Том 2. Машины и волки
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Терра - Книжный клуб
- Год:2003
- Город:Москва
- ISBN:5-275-00774-4, 5-275-00727-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Борис Пильняк - Том 2. Машины и волки краткое содержание
Борис Андреевич Пильняк (1894–1938) — известный русский писатель 20–30 годов XX века, родоначальник одного из авангардных направлений в литературе. В годы репрессий был расстрелян. Предлагаемое Собрание сочинений писателя является первым, после десятилетий запрета, многотомным изданием его наследия, в которое вошли, в основном, все, восстановленные от купюр и искажений, произведения автора.
Во второй том Собрания сочинений вошел роман «Машины и волки», повести и рассказы.
К сожалению, в романе «Машины и волки» отсутствует небольшая часть текста.
http://ruslit.traumlibrary.net
Том 2. Машины и волки - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
А волки и мужики остались в положении своем первоначальном… —
Часть книги последняя, без названий
…Каждую ночь по-октябрьски выковывались звезды, и мороз, колкий, как звезды, сковывал лужицы улиц и воду на реке там, где близко к берегу стояли баржи. Ночи были черны, и они приходили мраком, точно мрак разводили, как разводят чернила в чернильницах, — так же приходили и рассветы, только рассветами в бочки мрака наливали мутную воду дней. И день и ночь горели всеми забытые фонари на улицах; заводы: или молчали, или неистовствовали, буксуя, брошенные рабочими. Иногда на перекрестках, у выжатых морозом луж, заметал снежок, наивный такой, от которого весело и думается о благодатной зиме. — Тогда, в октябре, в 1917 году, в Москве, — было очень тихо, как в деревне за выгоном вечерними сумерками, когда даже гаечки и синички стихли в серости дня, а мужики кончили молотить и пошли к избам, и избы захворали трахомой керосиновых лампенок. И так же, как деревенская улица, была пустынна Москва, и в память лезли сорванные водосточные трубы, сваленные трамвайные столбы и автомобили. Только изредка слышны были пулеметные чечетки, ружейные залпы, — выстрелы же из пушек были миролюбивы и нестрашны, как не страшно — и очень похоже — когда ремнем бьют на стенах мух. И только вот эти бочки разведенных сумерками чернил, сумерки, похожие на рабочие мастеровские куртки и на их быт в заводских казармах, говорили, что Москва — заводский город и здесь творятся стихии. И очень многие тогда ночами лазили на крыши, чтоб подышать морозцем, похрабриться и посмотреть на столб огня в небе, идущий от Никитских ворот: там на крышах даже перекликались с крыши на крышу.
Москва — тоже портовый город: у Садовников на Москве-реке, на канале, там стоят баржи и пароходы, и дощаники, и на баржах, как на всех русских реках, на мачтах горит фонарь (и под баржей в воде этот же горит фонарь), а у избы посреди баржи поет тоскливо, про разбойников, ветлужский мужик, — а в октябрьские эти заморози между барж, у дощаников, возникает тонкий ледок, колкий, как звезды; там, на баржах и около них, пахнет варом, потом, опорками и солью, как на всех баржах…
Тогда, в те дни, к Москве шел, как многие поезда, поезд с полуротой солдат, с винтовками и бомбами. Он пришел к вокзалу в часы, когда лились на землю бочки мрака и медом светили забытые фонари. Люди ждали, что они услышат вой и гуд, и гул небывалой битвы, — Москва встретила морозцем, тишиной и снежком у медовых фонарей на перекрестках. А потом снежок стих, и небо заковалось звездами, колкими, как лед. Полурота выгрузилась на товарном вокзале, и ее сейчас же арестовали, разоружили, распустили солдат без винтовок. Тогда солдаты этой полуроты поодиночке стали собираться к коменданту, — их собралось десятка полтора, — они говорили о пустяках. И один спокойно сказал:
— Сымай револьвер, товарищ-комендант! Где ключи от цейхгауза? Степан, стань к телефону…
Коменданта убили его же револьвером в его камере, он долго лежал на цементном полу, руки назад и лицо в луже крови. Вокзал был пуст, во мраке и в семечках под фонарями, под фонарями же висели воззвания и приказы:
— «Вся власть Советам!» — «Да здравствует Учредительное Собрание!» — «…дабы они имели возможность получать хлеб, не стоя в городе в очередях», — «Сов. Солд. Деп…» — «Викжель нейтрален!»
— и сбоку карандашом:
«Митька Пугин вор!..»
У коменданта, у того, что лежал в крови, в кармане на веревочке была печать, и в столе солдаты нашли ключи от цейхгауза. Кое-где на скамьях спали часовые, на подсолнечной шелухе. Полурота вооружилась из цейхгауза, сняла посты, заняла неработающие телефоны и вышла в октябрьские бочки мрака, на пустую улицу к ветру, юркому, как плохие разведчики на фронте, к огромному плакату в ветре и меде фонарей —
«Вся власть Советам!» — Напротив вокзала у пустой пекарни уже становилась на ночь очередь старух за хлебом и для сплетен, для черного жужжания о гибели России, для шепота по подворотням.
Полурота в строю пошла к городу, глухими, переулками. Вдалеке стреляли, отбивал чечетку пулемет, и поэтому кругом в дегтях ночи было могильно-тихо. На перекрестке крикнули из темноты.
— Кто идет?
Ответили:
— Свои!
Тогда из подворотни вышли двое, и этих двоих убили штыками. Так — смертью — шли до новой заставы, менялись: — «Кто идет?» — «Свои!» — убивали быстро и бесшумно. На мосту, у реки, у большой улицы стоял пулемет, и издалека еще крикнули:
— Стоой!
Пулеметы собирались стрелять. Опять сказали свои, и один — офицер Герц — солдатом — на смерть — пошел к пулеметам, чтобы его провели в штаб «за инструкциями»: своею смертью он давал время пройти остальным, — его повели переулками, провели проходными дворами; в доме, в махорке и огрызках хлеба, в грязи и тесноте, на полу и на столах спали, под лампой спорили, из окна было видно зарево над Никитскими воротами. Конвоир пошел к комиссару, ходил долго, но когда пришли обратно, того, кого привели, уже не было: он никуда не ушел, его не нашли просто потому, что никто не догадался порыться среди спящих, а он, дожидаясь, уже неделю не спавший, свалился на свои собственные ноги и уснул вместе с десятком спавших.
Те, та полурота, что осталась под пулеметами, сначала грелась у костра, а потом, потому что тогда, в те дни, в Москве надо было быть честным всей честью каждого и нации вкупе, — те, опять одиночками, ушли в переулки, вновь построились, теперь цепью, и пошли.
Они вышли на набережную. Вода за гранитом была безмолвна, огоньки мачт были огнями в воде, здесь никто не стрелял, — гирляндой ложек меда в бочках дегтя горели набережные фонари. И тогда полурота услышала, как во мраке, на барже, запели о том, что с Нижня-Новгорода собирался стружок, сорок два гребца — старинную песню о волжских просторах и буях, о всей прежней России, защемленной, щемящей, щемимой. Полурота остановилась, никто не знал этой набережной, никто не нашел бы ее поутру, — молчали. Один, бывший на Волге, пополз под гранит посмотреть, нет ли каната, которым причалена к берегу баржа. Другой крикнул, как кричат, дразнясь, на ветлужских:
— Ягор, — подай багор!
Песнь на барже стихла, оттуда крикнули с напускной строгостью:
— Эя! Кто там озоруя!? — кто канат воруя?
Долго была тишина, и тогда — один за одним — полурота полезла по канату на баржу. Было безмолвно, только иногда всхрустывал лед, когда приклады винтовок, свисая со спин ползущих, чертили по нему. Баржа была темная, загружена дровами и бревнами, у избы горел на жаровне костер, сидели двое — мужик лет сорока, бородатый, как Муромец, и старушонка в черном. Варили похлебку в котелке. Мужик не удивился, когда сразу вокруг него появился десяток солдат.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: