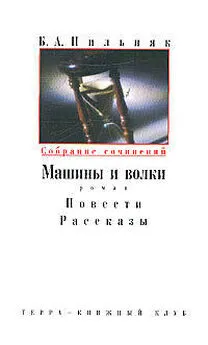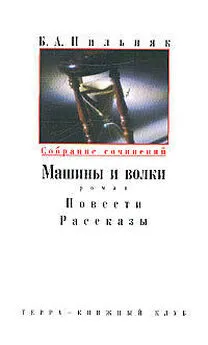Борис Пильняк - Том 2. Машины и волки
- Название:Том 2. Машины и волки
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Терра - Книжный клуб
- Год:2003
- Город:Москва
- ISBN:5-275-00774-4, 5-275-00727-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Борис Пильняк - Том 2. Машины и волки краткое содержание
Борис Андреевич Пильняк (1894–1938) — известный русский писатель 20–30 годов XX века, родоначальник одного из авангардных направлений в литературе. В годы репрессий был расстрелян. Предлагаемое Собрание сочинений писателя является первым, после десятилетий запрета, многотомным изданием его наследия, в которое вошли, в основном, все, восстановленные от купюр и искажений, произведения автора.
Во второй том Собрания сочинений вошел роман «Машины и волки», повести и рассказы.
К сожалению, в романе «Машины и волки» отсутствует небольшая часть текста.
http://ruslit.traumlibrary.net
Том 2. Машины и волки - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
…— В России крепостное право, экономически изжитое, привело к людоедству. В России людоедство, как бытовое явление, — сказал латыш.
— Да, моя родина, моя мать — Россия, — сказал профессор: — каждому русскому Россия, нищая, разутая, бесхлебная, кладбищенская — величайшей скорбью была — и радостью величайшей, всеми человеческими ощущениями, доведенными до судороги, — ибо те русские, что не были в ней в эти годы, забыли об основном человеческом — о способности привыкать ко всему, об умении человека применяться: — Россия вшивая, сектантская, распопья, распопьи-упорная, миру выкинувшая Третий Интернационал, себе уделившая большевистскую смуту, людоедство, национальное нищенство.
Говорили почему-то оба: профессор и латышский капиталист по-немецки, но слово — людоедство — употребленное несколько раз, каждый раз именовали по-русски, понижая голос. Латышу, сраставшемуся с Россией детством и десятилетиями зрелой жизни, ему ведь часто ночами, спросонья в полусне мерещились тысячи серых рук у глотки, высохшие груди из России, с плохой какой-то картинки, тогда его мучила одышка вспоминалась молодость, всегда необыкновенная, ему было тоскливо лежать в простынях, он пил содовую и старчески уже думал о том, что он боится — не понимает — России и отгонял мысли, ибо не понимать было физически мучительно.
В купэ горели ночные фиолетовые рожки, светили полумраком. Англичанин выкурил трубку, ушел. Поезд замедлил ход. В'езжали в коридор, по вагонам пошли польские пограничники, позвякивая шпорами. Профессор заговорил об аусфуре. Пограничники ушли, за окнами в небе светила мутная луна, — коридор опустел, вагон затих. Едва пахло сигарами, фиолетовые рожки светили полумраком. Тогда по коридору бесшумно прошел помощник проводника, собрал у дверей башмаки и понес их к себе чистить, — у проводников за плотно притворенной дверью горело электричество, на столике стояла бутылка коньяка, на диване против проводника сидел джентльмен, французский шпион, составлял списки едущих в Россию. Разговаривали по-французски, мальчишка чистил башмаки.
На другой день к полдню, у Эйдкунена появился снег, — проводники распорядились к вечеру затопить вагоны. В Эйдкунене, на таможенный осмотр, американцы вышли в дэмисезонных пальто, в дорожных кэпи, с шарфами наружу, перекинутыми через плечо, в желтых ботинках и крагах; американцы на платформе немножко поиграли — в импровизированную игру вроде той, которою мальчишки в России и Норвегии занимаются на льду: катали по асфальту глышки, и тот, кому этой глышкой попадали в башмак, должен был попасть другому и бегать за глышкой, если она пролетала мимо. Русский профессор заговорил обеспокоенно об аус-фуре — с российским курьером, у курьера болели зубы, он молчал, — профессор вез с собой кожаную куртку, коричневую, совершенно новую, купленную в Германии, — в сущности нищенскую, — и у него не было разрешения на вывоз; латыш посоветовал выпороть с воротника клеймо фирмы, профессор поспешно выпорол; в таможенной конторе немцы, в зеленых фуражках, кланяющихся туда и обратно, сплошь с усами, как у императора Вильгельма II на карикатурах, осматривали вещи: затем каждый пассажир, кроме дипломата, должен был пройти через будку для личного осмотра, — и в этой будке у профессора, когда он вынимал из кармана портмонэ и платок, выпал лоскутик клейма фирмы, — чиновник его поднял, профессора окружили немцы в зеленых фуражках, профессор стал школьником. Поезд передали в Вержболово, профессор отстал от поезда. Метр-д'отель пригласил к обеду, обед был длинен, ели и бульон с желтком, и спарфу с омлетом, и рыбу, и дичь, и телячий карбонат, — на столиках стояли водки, коньяки, вина, ликеры, — после обеда долго курили сигары, — за зеркальными окнами ползли дюны, леса, перелески, болота. Все больше попадалось снега, лежал он рыхлый, бурый, — а когда пошли песчаные холмы в соснах, — в лощинах тогда снег блестел в зимней своей неприкосновенности, как молодые волчьи зубы. Небо мутнело. — После обеда в комфортабельности, неспешности, долго курили сигары, пили коньяк, метр-д'отель и обера были в такте этой неспешности. Впереди Россия.
— Впереди — Россия.
— И через два дня, — поезд, — разменяв в Риге пассажиров, — сменив международные вагоны на советские дипломатические, выкинув из обихода вагон-ресторан, враждебный в чужой стране, с винтовками охраны у подножек,
— исчезли англичане, французы, французские проводники, начальником поезда ехал курьер с больными зубами, очень разговорчивый, появились несуразно одетые русские, курьеры, дипломаты, сотрудники учреждений столь же необыденные, как их названия — Индел, Весэнха, Внешторг, Гомза, Профобр, Центрэвак,
— прокроив болота и леса прежнего российского Полесья, спутав часы, запутанные российскими декретами о новом времени,
— все холоднее становилось, все больше снегу, все зимнее небо, и путалось время тремя часами вперед, чтобы спутать там дальше, в России — и ночи, и дни, и рассветы, — чтоб слушать американцам в необыденные часы рассвета непонятную, азиатскую, одномотивную песню проводника, на многие часы, валявшемуся у себя в тендере на гробах дипломатических ящиков с поленом и фуражкой в головах,
— поезд пришел в Целюпэ, к границе Р.С.Ф.С.Р.
В Целюпэ, на одинокой лесной станцийке, поезд нагнал эшелон русских иммигрантов из Америки в Россию. Небо грузилось, по-российски, свинцами, снег лежал еще зимний. Станция — станционные постройки и домики за ней упиралась в лес, и лес же был напротив, вдали виднелся холм в сосновом боре, в лесу напротив шли лесные разработки, и станцийка была, как в Швеции, на северных дорогах, стояли елочки по дебаркадеру, дебаркадер был посыпан желтым песком. В деревенской гостинице, на скатертях в складках, из серого домашнего полотна, в плетеночках лежал черный хлеб, какого нет на материке Европы, и в комнатах пахло черным хлебом. Хозяйка в белом чепчике приносила деревенские жирные блюда, в тарелках до краев, и в клетке у окна пел чижик. В восемнадцати верстах была граница Р.С.Ф.С.Р., город Себеж, кругом были холмы и болота, и болота Полесья, в лесах. Иммигранты возвращались на родину — из Америки. Еще — последний раз — пограничники осматривали паспорта. К сумеркам пошел снег. К сумеркам пришел из России, с Себежа, паровоз — баба (в России мешечники подразделяли паровозы на мужиков и баб, по звуку гудка, бабы обыкновенно были товарными). Баба потащила вагоны. Баба первая рассказала о русской разрухе, ибо у той дощечки, где сердце каждого сжималось от надписи граница, — текла внизу речушка в синих льдах и были скаты холма, а вдалеке внизу лежал поселок с белой церковью, — баба остановилась, и пассажирам предложили пойти грузить дрова.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: