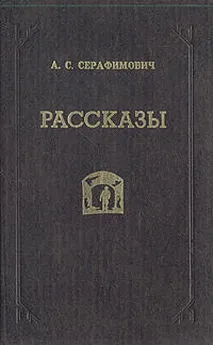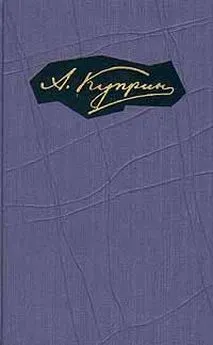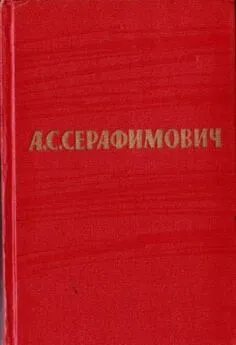Александр Серафимович - Том 4. Скитания. На заводе. Очерки. Статьи
- Название:Том 4. Скитания. На заводе. Очерки. Статьи
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Правда
- Год:1987
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Серафимович - Том 4. Скитания. На заводе. Очерки. Статьи краткое содержание
В четвертый том входят рассказы и очерки: «Скитания», «На заводе», а также статьи, фельетоны и выступления.
http://ruslit.traumlibrary.net
Том 4. Скитания. На заводе. Очерки. Статьи - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— Допрежь куда лучше было, — говорит он хриплым, давнишным-давнишным, как эти шахты, голосом, — ни одной, бывало, вши и за деньги не достанешь, ей-бо!
Товарищи — кто зачиняет порты, кто тоже охотится, а кто просто лежит на нарах, закинув руки под голову.
— Али в банях прохлаждались?
— Какие бани? Бани в те поры никто и не знал. Это нонче избаловался народ банями, а прежде мылись через зиму, а то и боле, как в деревню попадали. А чистота была от гасу. Казармов не было, жили в землянках, ну, как затопишь углем, пойдет из печи от угля серный гас, вся вошь подохнет — чистота.
— А народ?
— Угорал, как не угореть, ну выволокут на снежок, отлежится. Случалось и помирали, а чистота была.
Он встряхнул рубаху.
— Как же! А простор какой был! Дикие козы в степе ходили, сказывают, из-за Каспия добегали, сайгаки, ей-бо! Разве нынешние времена? А шахта? Прибежище и сила. Бывалыча, с каторги убегет человек али попрактикуется грабежом, — куды, куды? на шахту. «Есть пашпорт?» — «Извините, сделайте одолжение…» — «Спущайте». Спустют голубчиков, и-и как у Христа за пазухой: полиции, как и нет ее. Иной год, два… по пять, по десять лет не вылазили, ей-бо! Ну, слова нет, денег им, почитай, не платили, разве товарищи водки принесут, ну, зато полиция не касается. Что толковать, хорошо было, просто, не то что теперь — суды да председатели. Энна! к мировому!.. Да я к мировому рупь с четвертью на день теряю. А прежде как? Подозвал десятский: «Ты што?..» — ахх, в зубы! весь искровянишься, а рупь с четвертаком в кармане без убытку. А теперича председатели да присутствия… Председатели да присутствия, а почему такое анжинер да управляющий всем служащим «вы», а нам «ты»? Ежели присутствие, пущай и нас величают, а то вошь заела. На-кось, выкуси!
Старик опять встряхнул рубаху, сложил комом, зажал под волосатые подмышки и слонялся между нарами в одних портах, из которых вылезало старое, жилистое, неизносимое тело с въевшимся в кожу углем, который уже никогда не отмыть.
— Не желаем, и шабаш! Пущай величают.
— Та цыть! — цыкнул чахоточный, как доска, шахтер, свесив с нар узловатые ноги, и с хриплым клокотанием выплюнул на пол черную, как сажа, мокроту.
— А што ж, правда!.. — протянул парень-гигант, чугунно-черный, точно вырубленный из каменного угля. Он лежал, протянувшись на нарах, закинув под спутанную шапку волос мускулистые руки. — Нехай величают. Два дня назад был у казенки на хуторе — степью шел, в трубку хлеб погнало, — злобно кинул он, приподнявшись на локоть, — вохлеб!
— Пущай величают! — твердил голый старик, разгуливая между нар. — А што я тебе скажу, — проговорил Семишкура, присаживаясь на нарах, — задумался я… — Он посмотрел в тусклое, как и все, занесенное черной пылью оконце и надел осторожно рубаху, которая все-таки разлезлась на плечах и на локтях. — Задумался я… Слышь, тридцатый год ноне пошел, как я в шахтах… матери твоей весело. Допрежь во за этим бугром кабак был; как вышел на бугорок, а-он тут, родимый, у балочке. И на душе легко. Теперь качай за четыре версты к казенке, сиделец за сеткой, как ворон, ей-бо! Што за веселость!.. Тридцать годов как прикованный, дале казенки нигде не бывал. Эх, голубь! как она, родимая сторона! пашут, сеют… хлебца житного свово хочь понюхать!.. Никак вымерли все… тридцать годов не через губу переплюнуть… Подкатило, брат, к самому суставу: в одну душу — пойду гляну своими глазами, потопчу родимую своими ногами.
— Будет тебе, старый черт, поди четверть водки купи… — злобно крикнул парень, приподымаясь на локте. — Видал, в степи шел: вохлеб, а в Расее у нас одна солома.
Старик ссунулся, задумался о своем.
— Тут ее, матушку рожь-то, и не сеют.
И стал угрюм и молчалив той угрюмостью и молчанием, что родят вечная тьма да молчание подземное. На другой день старик не пошел на смену, а пропал.
— Залил старик зеньки, — говорили шахтеры, надевая кожаные шлемы и заправляя лампочки перед спуском, — теперя на неделю закрутил.
Но Семишкура явился на другой день. Явился отмытый, сколько можно было — кожа у него из черной стала стальной, — в новой ситцевой рубахе, а руку оттягивала полуведерная бутыль.
Собрал свою казарму, поклонился в ноги, поставил на нары бутыль, положил бубликов и сушеную тарань.
— Братцы, тридцать годов… во, как перед образом, без передыху… Как лето, наши кто в Расею к себе в деревню, кто в степе на работу, ну я без передыху, чисто запрегся, волоку — и шабаш… На шестой десяток перегнуло, много ли таких работают… Близко уж старые кости сложу, гляди, и не подымешься со сменой. Вот, братцы, иду мать родную сторону проведать. Кушайте на здоровье, поминайте Семишкуру.
— На доброе здоровье!..
— Легкой дорожки…
— Штоб родимая сторонка обняла, приютила… — загудели шахтеры, такие же мрачные, с неподвижными лицами, не то высеченные из черного камня, не то отлитые из тяжелого чугуна.
Пили, закусывали.
А парень — косая сажень в плечах — поднялся во весь громадный рост, с неподвижным, неулыбающимся черным лицом, налил из бутылки полный стаканчик, выпил, молча налил второй, выпил и, не отирая губ, повернулся, тяжело стукнул Семишкуру по плечу, и старик покачнулся.
— Брось… слышь, брось… не тебе, старому псу… тут издохнешь… Водку стрескаем, а ты ступай в смену… эн-та теперича не про тебя… там, брат, свое… лезь в штольню… — и стал прожевывать бублик.
— Нехай!.. нехай идет!
— Пущай… ничего…
— Занудился тут… тридцать годов — не восьмуха табаку…
— Братцы… ребятушки… ей-бо!.. рад душой. Господи!.. — со слезами, уже нетвердо держась на ногах, говорил Семишкура, — лишь глянуть на нее, на мать на родимую, на землицу забытую…
На другой день в конторе, когда брал расчет, штейгер говорил ему:
— И куда ты, старая собака, прешься?.. Ты, чай, в хозяйстве бугая от мерина не отличишь… А чем землю пашут, помнишь? Чай, думаешь, киркой рубят да в вагонетках возят… Эх, сивый мерин!..
— Дозволь, Иван Аркадич… давай косу… слышь, давай косу, зараз — эххх, раззудись плечо! Махну, зазвенит… Ты не гляди — старый, вот работну!.. Работай в штольне, а помирать иди в деревню.
И долго смотрели с рудника, как шел в степи, все делаясь меньше и меньше, Семишкура с котомкой на плечах, долго смотрели с тайной завистью. Потом молчаливо скрутили цигарки, молча выкурили, сплевывая черную струю, и пошли к ожидавшей клетке опять в вечную тьму.
Жизнь на руднике по-прежнему катилась изо дня в день — ревел, вызывая смену, ревун, переливчато говорили бежавшие цепи, спуская и подымая людей. По-прежнему в штольнях бились, врубаясь в черный уголь, полуголые, черные, обливающиеся потом люди при неверном красноватом свете лампочек. По-прежнему на руднике все было занесено черной пылью, и сквозь мглу тускло светило медно-красное раскаленное солнце.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: