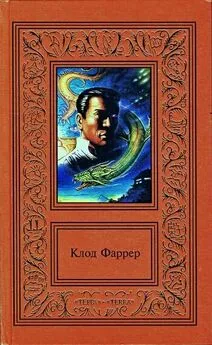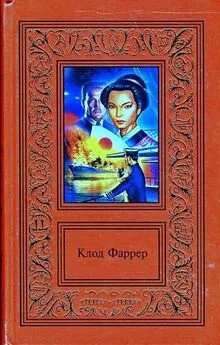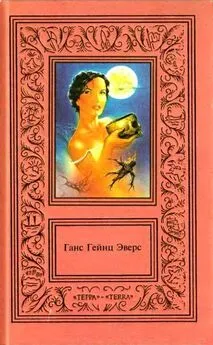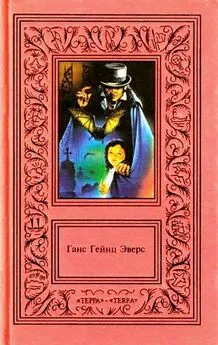Петр Северов - Сочинения в двух томах. Том первый
- Название:Сочинения в двух томах. Том первый
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Днiпро
- Год:1980
- Город:Киев
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Петр Северов - Сочинения в двух томах. Том первый краткое содержание
В первый том вошли: повести, посвященные легендарному донецкому краю, его героям — людям высоких революционных традиций, способным на самоотверженный подвиг во славу Родины, и рассказы о замечательных современниках, с которыми автору приходилось встречаться.
Сочинения в двух томах. Том первый - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Мы пошли на усадьбу; Рыльский поставил у крылечка удочки, взял меня под руку и повел вокруг дома.
— Значит, слона-то и не заметил? Вот он, можете любоваться, — сикомор!
За домиком на удобренной земле широко раскинула ветви старая шелковица. «Дерево из семейства тутовых»… Все правильно. И это действительно был зеленый, тенистый, приятный уголок.
Мы присели за дощатый стол, и Рыльский стал доставать из плетенки аккуратно завернутый в газету дневной улов. Я не увидел ни щуки, ни окуня, ни соменка. В свертке оказалась большая потрепанная тетрадь. Тут я не удержался, спросил:
— Где же рыба?
Он улыбнулся и осторожно разгладил тетрадь.
— Как и полагается ей — в реке. А река наша — Ирпень — знаменита. В полном смысле слова — историческая река. Помните, Гоголь в своем эскизе «Взгляд на составление Малороссии» писал: «Гедимин, сильно поразив противников при реке Ирпене, вступил с торжеством в Киев»… Это было в начале четырнадцатого века… Там, на реке, в сторону Дымера, есть у меня заветный уголок: зеленая круча, верба, тихий, глубокий омут. Задумаешься в одиночестве, в тишине: то ли ветер пробирается в камыше, то ли шумят столетия…
Он взял со стола тетрадь.
— Здесь он и хранится, мой сегодняшний «улов» — новые стихи. Будете слушать?
— Конечно. С большим интересом.
Максим Фадеевич помедлил, задумался, улыбнулся.
— Как-то один поэт мне горько жаловался, что у него нет отдельного кабинета. Правда, позднее он обзавелся кабинетом, но… стихи не стали лучше. Я настоятельно советовал ему махнуть рукой на «условия», на «кабинет» и работать всегда, коль скоро это органичная потребность. Разве плохо работать в дороге, — где-нибудь в селе, на речке, в степи… Вы бывали в Винницкой области? Какие там, на Южном Буге, места! Например, район Тыврова: чудесный лес, зеленые раздольные берега, домики над откосами, — над обрывами, — то звонкая, лихая быстрина реки, то тихие солнечные плесы… Что это за радость — посидеть с удочкой на том приветливом берегу, когда закат затлевает над камышами и песня или голос гармошки доносится из села. Я люблю этот благодатный край с его примечательными яркими пейзажами, доброй землей, урожайными садами, с перелесками у дорог, с новостройками, гранитными карьерами, свекловичными плантациями, тучными колхозными хлебами. Все занятость, а то забрался бы куда-нибудь в Сутинки в колхоз, и не нужно лучшего «кабинета», чем селянская светлица, и других условий не нужно, — только постоянно быть среди людей. — Вздохнув, он наугад раскрыл тетрадь, — Извините за «лирическое отступление», а вернее сказать — вступление. Пожалуй, оно даже необходимо. Итак, переходим к стихам.
Однако перейти к стихам не удалось: нам помешали.
Пожилая женщина, то ли свояченица, то ли гостья (у Рыльского всегда кто-нибудь гостил), распахнула окно и сказала:
— Тут, Максим Фадеевич, одна старушка вас ждет, Я ее чаем угощаю, чтобы не скучала.
Он отложил тетрадь.
— Да, помню, пусть пожалует сюда. Кстати, подайте бумагу и чернила. Но сначала допейте свой чай.
Старушка появилась тотчас, маленькая, сгорбленная, с клюкой. Она еще с порога стала кланяться, но Рыльский недовольно поморщился, встал, пожал ей руку и усадил за стол рядом с собой.
— Итак, Мария Семеновна, сейчас мы напишем заявление в райсобес…
Она всплеснула руками.
— Вы помните мое имя и отчество?
Рыльский усмехнулся:
— А разве они сложны? Помню, и как величали вашего мужа: Степан Кириллович Загоруйко: в 1921 году пал в бою с кулацкой бандой. Вам, конечно, положена пенсия, и мы сейчас напишем об этом.
Перо уверенно бежало по бумаге. Женщина следила за рукой Рыльского, затаив дыхание. У него был мягкий, округлый, очень гармоничный почерк. На какие-то секунды он задумывался, приставив безымянный палец к губам, и снова быстро, уверенно писал. Потом он запечатал заявление в конверт и надписал адрес.
— Вот, уважаемая Мария Семеновна, как говорили в старину, прошение. Завтра направляйтесь в райсобес, а я им с утра позвоню.
Растерянная и взволнованная, старушка до самой калитки бормотала благодарности и все хотела пониже поклониться, но Рыльский шел рядом с нею и эти поклоны никак не удавались, а у калитки он снова пожал ей руку и пожелал добра.
— Итак, — сказал, возвращаясь под сикомор, — теперь стихи…
Но где там стихи! От калитки к дому уже шел очередной посетитель: рослый молодой человек в белом костюме, с огромным портфелем в руке.
— Надеюсь, помните, Максим Фадеевич?
— Да, мы виделись… на торфоразработках.
— Так точно. Я парторг. И вы обещали выступить перед нашими рабочими.
Рыльский наклонил голову.
— Помню, обещал и вам, и директору Дмитрию Васильевичу Середе. Но когда это сделать? Пожалуй, чтобы не откладывать и не быть в долгу — завтра.
Гость заметно обрадовался.
— И это… железно?
— Слово есть дело, Иван Петрович! В восемь вечера. Докладываю о работе украинских советских поэтов и читаю стихи.
Гость даже притопнул ногами.
— Как вас отблагодарить?
— Это очень просто, — сказал Рыльский. — Постарайтесь, чтобы в клубе не было свободных мест.
Я уже знал голос калитки и оглянулся: да, к приветливому дому размашисто шагал еще один гость!
— Закончил!.. Наконец-то закончил… Знаю, теперь-то моя соната прозвучит! — сообщил он еще издали.
— Молодой композитор, — негромко сказал Рыльский. — Человек одаренный и, как зачастую при этом водится, беспокойный.
Парторг Иван Петрович вскоре простился и ушел, а композитор вдруг опечалился и стал горько сетовать на собственную рассеянность: оказалось, что, торопясь принести свою сонату на суд Максиму Фадеевичу и радуясь окончанию труда, он забыл дома ноты.
Рыльский утешил его, сказав, что готов выслушать сонату в любое время, и они условились о встрече.
Лишь теперь выдался свободный час для стихов, и я впервые услышал, как в простой, интимной обстановке Рыльский читает свои стихи. Мне доводилось и раньше слышать его выступления в Донбассе и Киеве, но там он читал со сцены, а сцена, кулисы, огни рампы, вся обстановка театра дают неизбежную, несколько торжественную светотень. Как бы уверенно и свободно ни держался на сцене артист, чтец, музыкант, поэт — ему не уйти от этой светотени. Но сейчас большой поэт откровенно беседовал со мной, доверительно открывал свои думы; трогали картины родной Украины, и ее уверенная, дружная новь, и величие жизни человека, жизни освещенной и освященной вдохновением творческого труда.
Был вечер, и за насыпью по черным кронам тополей крупными жаркими брызгами стекал закат, а ветвь сикомора над нами плыла и парила, как бережное крыло. Под этим осторожным живым крылом мы еще долго вели беседу о жизни, о юности, о любви и поэзии, а потом Максим Фадеевич снова читал стихи, — уже не свои: Шевченко, Франко, Тютчева, Иннокентия Анненского, Блока… Он процитировал Павла Тычину, задумался и сказал:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: