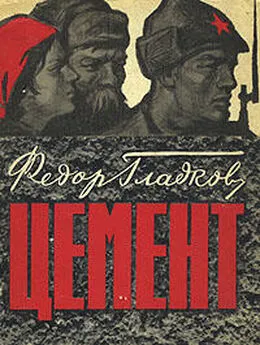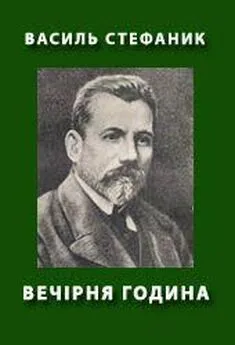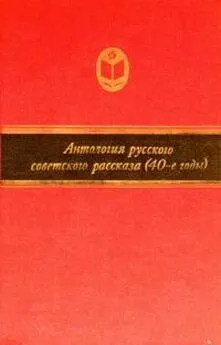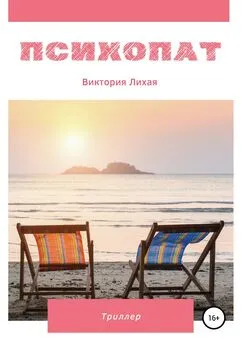Федор Гладков - Лихая година
- Название:Лихая година
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советский писатель
- Год:1954
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Федор Гладков - Лихая година краткое содержание
В романе "Лихая година", продолжая горьковские реалистические традиции, Фёдор Васильевич Гладков (1883 — 1958) описывает тяжелую жизнь крестьянства.
Лихая година - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— Ну‑ка, дедушка, иди сюда — помогай! Тётушка Лукерья, без тебя не обойтись: ты по бабьему делу лучше с Настей справишься. А ты, Федюк, удирай отсюда и больше в избу не заходи.
Эта быстрая распорядительность действовала и на Лукерью и на деда сильнее, чем приказ и окрик начальства. А начальство, начиная со старосты, всегда до тупой покорности угнетало деда, владыку в дому. Антон Макарыч без всякой обиды, со светлой улыбочкой, отшучивался на коварные вопросы дедушки и ставил его в тупик своим бескорыстием и добровольным уходом за холерными больными, без всякой боязни самому от них заразиться. Я верил каждому его слову и чувствовал, что к дедушке он относится снисходительно и видит его насквозь. Он не спорил с ним, и дело своё делал расторопно, без всякой брезгливости.
В этой нашей избе, которую дед любил устрашающе называть «кеновией», Антон чувствовал себя так же свободно, как у колодца. Должно быть, он в других избах, где были холерные, держал себя так же вольно, как и здесь: около больного он был хозяином и распоряжался без оглядки, без всякого стеснения. Привыкший с ранних лет бояться деда, я с удивлением наблюдал, как Антон благодушно заставлял его помогать себе, а дед безропотно слушался. Но эта властная сила Антона была не самовластием барина, а силой бескорыстного человека, который явился на помощь матери, чтобы спасти её от смерти.
Отец вошёл с полным ведром свежей воды и поставил его на стол, а прежнее ведро хотел вынести, но Антон спохватился и остановил отца:
— Ты, Василий, с водой подожди. Тебе есть другая работа.
Он приказал ему что‑то на ухо и громко закончил, ткнув пальцем в пол:
— Будь здесь, около тётушки Лукерьи. А ты, молодой человек, будешь ходить за свежей водой. Но в избу — ни ногой.
Я покорно вышел на улицу и больно почувствовал, что я — один, как сирота, что мне нет места ни в избе, ни в выходе, где лежала больная бабушка, ни в кладовой, где пахло рухлядью и гнилью.
VI
Студент Антон Макарыч приезжал каждый день на дрожках и вместе с Лукерьей и отцом долго возился с больной матерью: он давал ей пить лекарство, оттирал ноги и руки шерстяными чулками и не брезгал, когда её мучила рвота, и как будто даже веселел и покрикивал с радостной уверенностью:
— Вот как мы умеем холеру выгонять! Пьём ключевую водичку — обильно промываем нутро, через денёк, через два воскреснешь, Настенька, и почувствуешь себя счастливой, а жизнь прекрасной, хоть и забита она разными мерзостями.
Его провожал отец до самых дрожек с благодарной и учтивой улыбкой, склонив голову к плечу. А Лукерья глядела из открытого окна с умильной истовостью. Он шагал в выход, где лежала бабушка и метался в горячке Сёма. Оттуда он выходил вместе с дедушкой.
— Бог‑то бог, да сам не будь плох, Фома Селивёрстыч, — смеялся он, выбегая из подземелья. — В жизни ты своего не упустишь, без драки своего не отдашь. А тут — живые люди, кровно близкие. Как же не бороться за них, как же их не спасать от смерти? Бог–то едва ли одобрит тебя за то, что ты сваливаешь на него все напасти. Я думаю, что человек угоден богу не смирением и терпением, а борьбой за своё законное право — жить и по–своему устраивать свою судьбу. Эх, как крепко в тебе сидит рабский страх перед владыкой–барином! Ничего ты не знал в своей жизни, кроме покорности и жестокости. А жизнь теперь иная и люди иные. Так ты уже, старичок, не мешай им жить, как хочется.
Так он приезжал к нам по два раза в день и скакал на дрожках по большому порядку, а оттуда катил в заречье.
Мать медленно выздоравливала, и её перенесли из-под образов на кровать у задней стены. Лицо её, очень худое, бледное, уже светилось едва уловимой улыбкой, и когда она открывала глаза, они казались большими и лучистыми.
Бабушка скоро отлежалась от какой‑то немочи и уже благостно стонала в чулане. Сёма в выходе лежал в горячке. Тит не показывался: он перебрался на гумно — в половёшку. Он хозяйственно бродил по двору и, усыпанный охвостьем, не знал, за что взяться. Сыгней пропадал у чеботаря и по вечерам торопливо пробегал в кладовую, переодевался там и так же торопливо, с оглядкой, исчезал в сумерках за амбарами, кудрявый, густобровый, ловкий. Должно быть, он пользовался правом «лобового», для которого всё — трын–трава. Этих парней считали наполовину солдатами и, по обычаю, в часы гульбы уже не было над ними суровой власти отца и семьи. Озорство их часто булгачило всю деревню. Притворяясь пьяными, они проходили по улицам нашей и заречной стороны, орали пригудки под гармошку, плясали на ходу и вдруг, ни с того ни с сего, начинали ломать прясла в загонах и выгонять на улицу коров и овец. Скотина мычала, блеяла и разбредалась по улице.
Однажды они соблазнили выпивкой сотского Гришку Шустова, и он, как бывший солдат, гулял с ними до петухов, похваляясь перед парнями своей унтерской свирепостью. А когда он свалился на улице, они стащили с него рубаху и портки. Об этом долго судили в каждой избе и злорадно хохотали. Но он отсиделся дома и никому не мстил: боялся, как бы начальство не лишило его почётной и доходной службы.
В этом году лобовых у нас было трое: наш Сыгней, Олёха Набрин — тот самый, который наваливал мешки на плечи Аукоии слепого, — и Мишка Кантонистов, парень из самой беззаботной семьи, красноволосый, с пёстрым от веснушек лицом.
В эти зловещие ночи, когда избы прижимались к земле в могильном молчании, лобовые ребята бродили по селу и, распевая пригудки под гармошку, будоражили девчат, которые спали на траве перед своими избами. Эти озорные прогулки по всему селу с гармошкой и разудалыми припевками, когда в редкой избе не было горя да беды, оскорбляли горестную тишину и вызывали враждебные жалобы.
Из открытых окошек высовывались седые головы, и старческие голоса совестили рекрутов. Но они лихо отшучивались и отбивали трепака. Для лобовых не было никаких преград и застав: они переходили на ту сторону, туда, где стояли караульщики, отнимали у них колья и бросали в реку, а караульщиков разгоняли по домам.
Мы с Кузярём обычно по вечерам шли к пожарной и играли с Миколькой в чушки. Долгоногий Миколька бил тяжелыми палками по чурбачкам метко и сильно, и они, кувыркаясь, разлетались далеко в стороны, а мы с Кузярём скоро «отмахивали» свои руки и проигрывали Микольке. Он, довольный, победоносно прищуривался и напевал себе под нос невнятную пригудочку. Кузярь злился и беспощадно мстил ему ядовитыми словами:
— Дурак не умом гож, а махалками. Даже лошадь за сохой думает, а дурак только бездельем жив — как здесь вот у пожарной. Давай‑ка лучше в шашки срежемся: ты любишь в нужнике сидеть.
И верно, Кузярь ловко и уверенно передвигал шашки на пёстрой доске, устраивал ловушки и принуждал Микольку бить подставленные пешки, отдавать взамен по две, по три сразу и прочно залезать в тупики. Худенькое личишко Кузяря становилось остреньким и злым, чёрные горячие глаза зорко рыскали по доске, а костлявый палец хищно целился то на одну, то на другую пешку. Миколька задумчиво гнусил какую‑то песенку и спокойно, медлительно размышлял над очередным ходом. Он вскидывал прищуренные глаза на Иванку и шельмовато подмигивал ему, и мне казалось, что он всегда следил за Кузярём и старался ошарашить его внезапно, с невинным и игривопростодушным видом. Миколька всегда показывал нам своё превосходство взрослого парня, а на дерзости Кузяря или улыбался молча, или кротко и снисходительно ворковал:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: