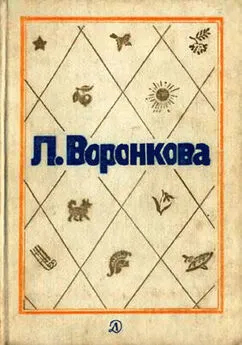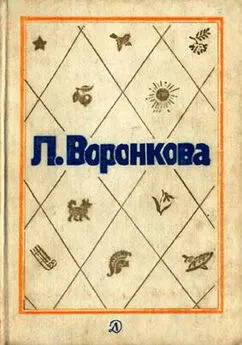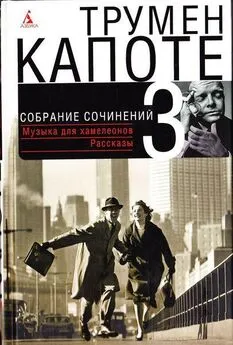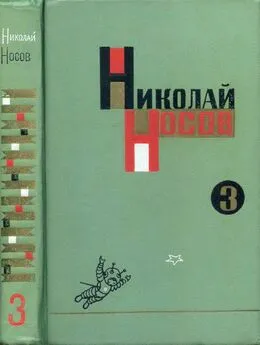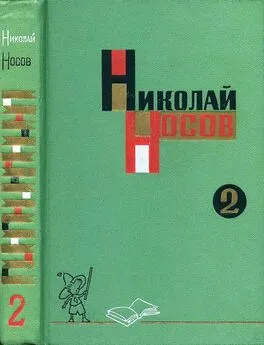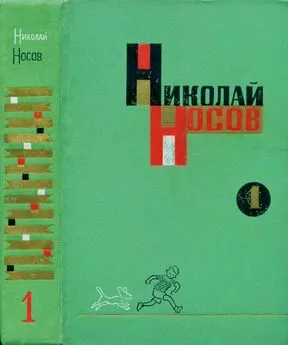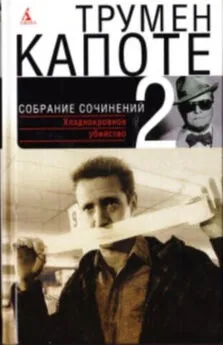Гавриил Троепольский - Собрание сочинений в трех томах. Том 1.
- Название:Собрание сочинений в трех томах. Том 1.
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Центрально-Черноземное книжное издательство
- Год:1977
- Город:Воронеж
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Гавриил Троепольский - Собрание сочинений в трех томах. Том 1. краткое содержание
В первый том Собрания сочинений лауреата Государственной премии СССР Г. Н. Троепольского вошли рассказы и сатирическая повесть «Кандидат наук».
Издание сопровождено предисловием и примечаниями И. Дедкова.
Собрание сочинений в трех томах. Том 1. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Но не спал Ираклий Кирьянович Подсушка. Он усиленно пытался думать. Даже более того: мучительно пытался думать. Что же заставило его думать в такой момент, когда вообще можно не думать ни о чем? Оказывается, это — дело случая. Кто-то из ревнителей науки задал спросонья докладчику бесцеремонный вопрос:
— Какой сорняк порождает тыква?
Карп Степаныч Карлюк отвлекся от сообщения и, поскольку вопрос касался его темы, ответил так:
— Если мы уверены, что овес порождает овсюг, то вполне можем быть уверены, что кормовая тыква порождает сорняк. Какой? Наукой еще не достигнуто. Но почему бы и тыкве как заменителю овса априори не родить что-либо подобное или в этом роде? В этом вопросе открыты широчайшие горизонты в науке, и этот вопрос необходимо изучить, что представляет непосредственный интерес для производства, так как в борьбе с проникновением вредного влияния менделизма это будет еще одним плюсом… — И Карп Степаныч был удовлетворен собственным ответом настолько, что внутренне улыбнулся. (Внешне он улыбался очень редко.)
Неожиданно Масловский встал. Он попросил слова и сердито заговорил:
— Ответ «глубокоуважаемого» сообщителя заставляет меня дать существенную, как мне кажется, реплику. Любое научное исследование может не только утверждать предположения или подтверждать чьи-то мысли, идеи, но и отрицать. Да, отрицать. Многие, например, не согласны с Лысенко. Ну и что? Наука развивается в противоречиях, в спорах. Отнимите у нее этот принцип развития — и наука превращается в схоластику со всеми вытекающими отсюда последствиями. С этой точки зрения сообщение Карлюка весьма интересно. Он, как уже видно, ничего не собирается отрицать или с кем-то спорить. А что же он утверждает?.. В своем «научном» изложении он раз двадцать употребил слова «менделизм» и «менделисты», а в ответе на заданный вопрос уже заявил, что гипотетический тыквосорняк «будет ещё одним плюсом в борьбе» с менделизмом же. Но позвольте: сам Лысенко, кажется, не утверждал, что сорняки рождаются от всех культурных растений. Карлюк же превратил овсюго-гипотезу в инструкцию о происхождении новых видов растений. Вот вам пример схоластики. Когда же это кончится?! Нет, я больше не могу. Надо наконец называть вещи своими именами: это — не научное сообщение, а профанация науки. — И вдруг Масловский бросил к кафедре: — Вы, Карлюк, не понимаете того, что опошляете науку, настоящую науку, повергая даже и то, что пытаетесь подтверждать и чему поклоняетесь. — Тут профессор совсем обозлел и обратился вновь к собранию, уже вовсе не по-профессорски: — Вспомним, товарищи, и почтим… сидением того из пословицы, кто разбивает свой лоб, если его заставляют молиться. — И правда, сел на свое место.
Наступила тишина как в подвале — пауза небытия, провал духа: для одних это было первым дуновением зловещего ветра против науки, для других — первым-первым ветерком начала восстановления доброго имени российской науки… Полно, начало ли это? А пока была только тишина.
Наконец Столбоверстов шепнул Чернохарову на ухо:
— Дальше некуда — Масловский вылупился весь!
— Учтем, — ответил Чернохаров гусиным шипением. — Теперь-то уж он — как на ладони.
Ближайшие к ним видели, как Чернохаров показал Столбоверстову пухлую, идеально безмозольную бабью ладонь и как тот внимательно задержал на ней выпуклый взгляд, будто там, на ладони, на мгновение возникла не то проклятая им своевременно дрозофила, не то, как бы сказать, блоха какой-то истины. Иначе зачем же показывать пустую ладонь? А мудрых слов двух довольно печально известных ученых никто не слышал и потому не понимал, что приметная ладонь сия была в тот момент суровой дланью пресечения. Заметь такое Подсушка, он так бы и сказал: «Думать надо. Думать! И расти над собой, товарищи».
Карп Степаныч, прежде чем продолжать сообщение, некоторое время стоял, выпучив глаза. А Масловский при общем молчании иронически заключил:
— Можете продолжать.
Вот что заставило некоторых отвлечься от дремы. В зале зашевелились, выражая свое сомнение в ответе Карлюка. Вот что и заставило думать Ираклия Кирьяновича.
Мы уже знаем и о том, что он не принадлежал ни к кандидатам, ни к докторам, а был наукоруком по призванию. Это обстоятельство заставило его продумывать кое-что, для того чтобы вовремя успевать менять течение мыслей, убеждений и проблем, для улавливания момента в научной ситуации. А для этого требуется тоже большое искусство.
И вот сейчас ему, Подсушке, почему-то вспомнились слова священного библейского писания, каковое он постигал еще в начальных классах гимназии. Думал он так:
«Авраам роди Исаака. Исаак роди Иакова. А Иаков в свою очередь роди… Кого же роди Иаков? Забыл. Неважно: хрен с ним, с Иаковом. Нет, постой, постой… Кажется, есть какая-то связь… Значит, овес роди овсюг. Так. Понятно. А кого роди овсюг? Ведь и он кого-нибудь роди обязательно… Пшеница роди рожь, а рожь, обратно, роди пшеницу — это понятно: и тот роди и тот роди… Но кого же роди овсюг?..»
Он, по возможности незаметно, все-таки высунул кончик языка, но… ответа все равно не нашел. Он лишь искал себе объяснение, чтобы при случае не ударить лицом в грязь и объяснить другому. Сам же он действительно верил совершенно искренне в то, что сорняки рождаются от всех культурных растений. Верил просто, как верит истый христианин в то, что отрок в пещи огненной хотя и должен был сгореть в пепел, не сгорел все-таки и даже не потерял волос. Верил Ираклий Кирьянович и в то, что яровую пшеницу надо сеять именно там, где она не родится: важно — не урожай, а важно, чтобы она сеялась по пласту многолетних трав и вне зависимости от местонахождения этих трав даже в Архангельске или на Новой Земле.
После воспоминания о библейских предках мысли все-таки не покинули Подсушку. Он продолжал думать так:
«Что это за наука у Масловского?.. „Гипотеза“, „отрицание“, „не все растения рождают сорняки“… Надо же! Как это так — не все? Вот у Карпа Степаныча действительно наука: если тыква не родила пока сорняки, то родит вскоре. „Априори“ — обязательно родит! Рад Карп Степаныч сказал родит, то, значит, родит».
И это была глубочайшая вера в науку. Так Подсушке легче. А главное — думать гораздо меньше придется.
Филипп Иванович все-таки не уснул, а после реплики Масловского и вовсе взбодрел. Он украдкой посматривал на соседа, Подсушку, задумавшегося над вопросами науки. И Филиппу Ивановичу пришла мысль:
«Сколько таких верующих помогали, помогают и — кто знает! — будут помогать двигать вперед генетику, селекцию, агротехнику, животноводство! Того и гляди они помогут и Мальцеву так же, как „помогли“ Лысенко! Благо тому и бремя того легко, кто верует в непогрешимость инструкций и приказов наукоруков».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: