Георгий Семенов - Ум лисицы
- Название:Ум лисицы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Современник
- Год:1987
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Георгий Семенов - Ум лисицы краткое содержание
«Я убежден, что к читателю нужно выходить только с открытием, пусть даже самым малым», — таково кредо лауреата Государственной премии РСФСР писателя Георгия Семенова. Повести и рассказы, вошедшие в эту книгу, являются тому подтверждением. Им присущи художественная выразительность, пластика стиля, глубина и изящество мысли. Прозу Г. Семенова окрашивает интонация легкой грусти, иронии, сочувствия своим героям — нашим современникам.
Ум лисицы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Я забыл о своей неприязни к Наварзину и внимательно слушал его. Говорил он гудящим голосом, так, как говорят в телефонную трубку, не видя собеседника, — взгляд его был направлен в пустоту и ничего не выражал в эти напряженные минуты, кроме умственного усилия, которое проявлялось живыми складками на коже лба: поблескивающая в луче кожа то морщилась над переносицей, то разглаживалась, придавая лбу младенческую непорочность и чистоту. Он продолжал после короткой паузы:
— Только прошу не думать, что, говоря о машине, я имею в виду автомобиль или самолет. Я говорю о принципах подхода к жизни человечества, вкладываю определенную идею в понятие «машина», как и в понятие «человек». История подошла к обрыву. Человек своим интеллектом установил время, открыл, можно сказать, время, которого до человеческой цивилизации не было, не могло быть — все было бессрочно. Пришел человек, а вместе с ним появилось время. Он как бы с самого начала своего существования задумался: надолго ли он на Земле? Словно бы предчувствовал или знал о начале и конце. Установил сроки жизни на земле и тем самым привязал себя к кресту, который несет до сих пор на лобное место. Человек теперь на краю гибели. Надежды на воскрешение нет ни у кого. Во имя чего гибнуть? Жизнеобеспечение равняется нулю. Во имя же чего гибнуть? Что может спасти человечество? Кто? Машина! Неудавшиеся актеры, поэты, художники, придя к власти, становятся дьявольски опасными, они загоняют машину в угол, руководствуются эмоциями, которые у них гипертрофированы, как у всякой художественной личности. Пока не было термояда, человечество не находилось в такой опасности, как теперь. Теперь это страшно! Я потому и говорю о спасительной миссии машины или, как вы говорите, омашинивании человечества, и человека в частности, — это может еще спасти мир. Я думал об этом. Любой политик должен в первую очередь обладать качествами машины, чтобы остановить процесс гибели цивилизации.
— А что это такое, по-вашему, — цивилизация? — вставлял я свои вопросы, но он не слушал их, занятый собой и своими мыслями.
— Эмоции насаждают в нациях шовинизм: если я лучше, значит, он хуже; если я велик, значит, он ничтожен и мне ничего не стоит наступить на него и растереть подошвой. Машине чужды эти понятия: велик — ничтожен. Для нее человек вообще велик, она не знает национальности, цвета кожи; она признает только человеческий интеллект, общается только с ним, именно с тем, кто способен задавать ей вопросы и расшифровывать ответы. Разве это не любовь? Невежда для нее пустое место. Своим молчанием и холодом она презирает его, к какой бы национальности или расе, к какому бы социальному слою тот ни принадлежал. Вот что такое машина, дорогой мой поэт! Я мог бы бесконечно прославлять ее… Но только не для вас, — сказал Наварзин, и взгляд его вперился в меня с уничижительной бесцеремонностью. Мне даже почудилось, что серые его, померкшие глаза запахли едким дымом, как тлеющая обмотка проводов: с такой ненавистью смотрел на меня Наварзин. — Не для вас! — повторил он и даже выставил вперед ладонь, как бы отталкивая меня от себя. — А я, между прочим, — обратился он к затаившимся гостям, — читал недавно книгу, которая называется «Искусство программирования». В первом томе, а их, как вы понимаете, несколько, в первом, об основных алгоритмах, эпиграф: «С нежностью посвящается машине, — я запомнил это наизусть, — посвящается машине единица ВМ шестьсот пятьдесят, некогда установленной в Кейсовском технологическом институте, в обществе которой я провел много приятных вечеров». Это ли не поэзия?! Книга посвящается любимой… Что там Лаура? Машина! Вот предмет обожания. А мне говорят — машина! Знали бы хоть, что такое машина, черт бы их всех побрал! И вот что опасно! Таких миллионы, ничего не смыслящих невежд. Страшные люди!
Я остался на месте, не взбесился от гнева, я ждал, когда он умолкнет, чтобы одним махом, одним уколом разделаться наконец-то с Наварзиным. У меня был в запасе маленький аргументик в свою защиту или, точнее, в защиту Человека, как я тогда понимал, и я ждал момента, чтобы наверняка, резко и четко реализовать этот шанс. Момент почти наступил, когда Наварзин умолк, явно довольный собой. Не в силах скрыть своего возбуждения, он на сей раз вглядывался в лица гостей, ища поддержки, и, кажется, находил ее в избытке: гости сидели или стояли, подавленные его загадочной речью в защиту машины, которой все они отдали часть своей жизни. Сам я, впрочем, тоже отдавал должное Наварзину, его фантазии, основанной вроде бы на научных данных, и его хладнокровию. Я с серьезным вниманием вслушивался в многозначительную монотонность гудящего его голоса, похожего на тревожный сигнал, которым оповещают людей об опасности. Сигнал этот был в меру продолжительным, чтобы заворожить слушающих его. И вот он умолк. Я выждал некоторое время, чтобы сила воздействия Наварзина на слушателей ослабла или, во всяком случае, чтобы сознание их переключилось… А потом с улыбкой побежденного и признавшего свое поражение сказал:
— Вы интересно рассуждали о мифологии. Фантазия ваша так глубока и оригинальна, что вам можно только позавидовать. Куда там поэты! Они черепахи, земноводные, пресмыкающиеся по сравнению с вами. Но вот про сердце… Вы говорите, кожаный мешок. Я слышал и более прозаические определения: мотор, например. Или гиря, которая опустилась до пола…
— Какая гиря? — резко спросил он.
— Часы остановились. Гиря опустилась, и часы остановились.
— Ходики, что ли?
Я посмотрел на него с сожалением и тихо сказал:
— Ходики, ходики. Они самые. Называете сердце кожаным мешком… Ну что ж! Можно и так. Только почему в минуты страшного горя, или отчаяния, или чрезмерного нервного напряжения мешок этот рвется? Вот вопрос! Да, конечно, души нет, наука не открыла ее — пока! Но все-таки почему же рвется именно кожаный мешок, а не другая емкость, не желудок, например, или известный вам пузырь? Почему?
— Какая плоская шутка, — брезгливо сказал Наварзин. — Нет, это невозможно! Вы себе представляете кровеносную систему человека? Давление крови в этой системе? Что это такое? Представляете себе? Если не знаете, не говорите плоскости! Зайдите в свою поликлинику — там вам все объяснят. Вам надо начинать с азов.
Гости, собравшиеся уходить, засмеялись. И смех их был очень жесток: они смеялись деликатно, с сочувствием, как бы щадя во мне живое существо, которое они не хотели рвать на куски, понимая себя людьми, а не голодными, одичавшими собаками. Живи, как бы говорили они мне, но не суйся со своей глупостью, если не дорос до серьезного спора. Я был старше всех, и насмешливость их особенной обидой рвала мне грудь. Я едва сдерживался, провожая их взглядом и раскланиваясь с подчеркнутой независимостью, когда они прощались со мной.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
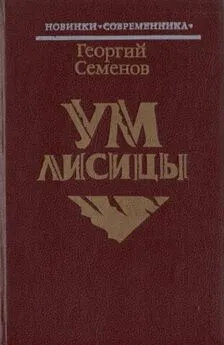

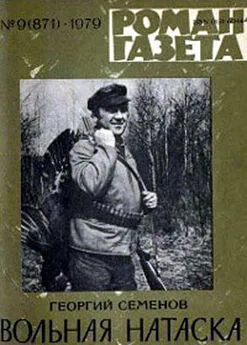
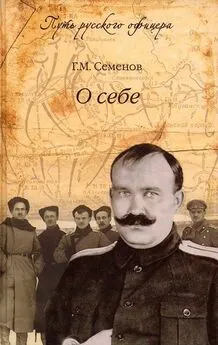
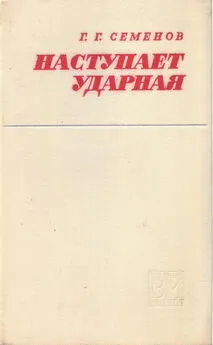
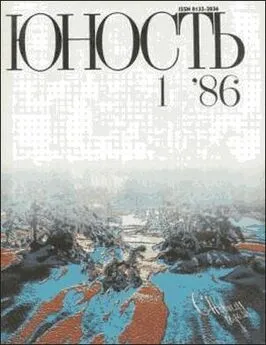
![Георгий Смородинский - Тень девятихвостой лисицы [СИ]](/books/1144766/georgij-smorodinskij-ten-devyatihvostoj-lisicy-si.webp)

