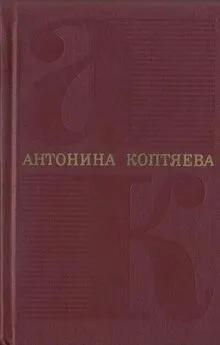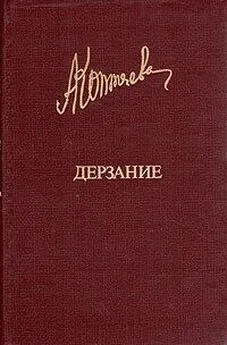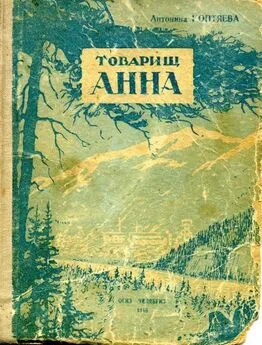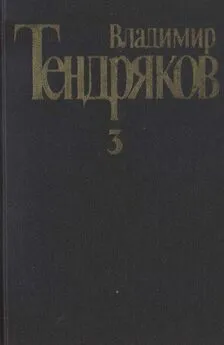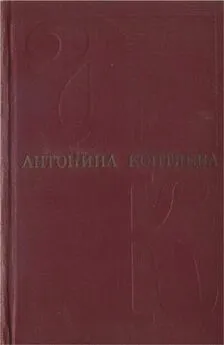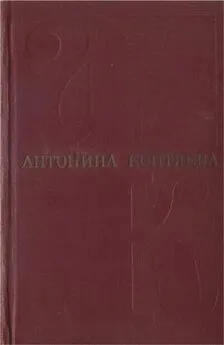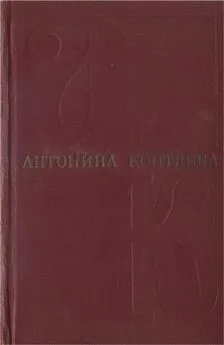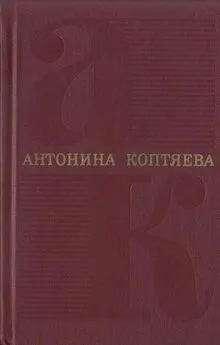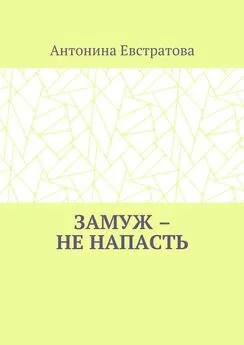Антонина Коптяева - Том 6. На Урале-реке : роман. По следам Ермака : очерк
- Название:Том 6. На Урале-реке : роман. По следам Ермака : очерк
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Художественная литература
- Год:1975
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Антонина Коптяева - Том 6. На Урале-реке : роман. По следам Ермака : очерк краткое содержание
Шестой, заключительный том Собрания сочинений А. Коптяевой включает роман «На Урале-реке», посвященный становлению Советской власти в Оренбуржье и борьбе с атаманом Дутовым, а также очерк «По следам Ермака» о тружениках Тюменского края.
Том 6. На Урале-реке : роман. По следам Ермака : очерк - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Чудесный солнечный день уже клонился к вечеру, в небе ни облачка. Ярко белели на синеве неба круглые башни, мощные стены и высокая колокольня собора Софии.
На просторном ковре природного газона среди белизны замкнутых мощных стен стояли тысячи тоболяков, празднично оживленных. Особенно врезалась в память совсем юная розовощекая девушка с роскошной косой, светящейся на солнце сплошным потоком золотых искр. Только бы парчовый сарафан на нее да кокошник. Ребятишки, как водится, набились в передние ряды у трибуны, покрытой коврами.
Стоило посмотреть, как слушали приезжих писателей, как смеялись, рукоплескали, сколько книг и открыток передавали для получения автографов, чтобы убедиться в любви к советской литературе, в необходимости таких встреч.
Ожидая своего выступления, я страшно волновалась. Мне хотелось передать привет этим людям, сказать, что одной половиной своего существа я сродни им, потому что мой отец, мещанин Дмитрий Степанович Коптяев, пришел на Дальний Восток отсюда, из Тобольска, и, когда я была маленькая, меня называли дома «упрямой белоглазой тоболячкой». Однако о моем творчестве неожиданно очень тепло высказался Григорий Коновалов, а так как нас приехало около сорока человек, то повторяться было невозможно.
Но когда мы сходили с трибуны, пожилая, просто одетая женщина пробралась ко мне сквозь толпу и сказала со слезами в голосе:
— Что же вы не выступили? Я пришла… Так ждала. Ведь прочитала все ваши книги. — И резко, даже гневно повернувшись, пошла обратно.
Я хотела пойти за ней, расспросить, успокоить, но наш заботник из бюро пропаганды, вездесущий Дмитрий Ефимович Ляшкевич, бывший уже начеку, подхватил меня под руку и, сильный, как трактор, потащил к выходу. Времени не было: под берегом Иртыша нас ожидал теплоход «Ленинский комсомол», на котором мы должны плыть в Ханты-Мансийский округ — центр добычи тюменской нефти. Другая группа улетала в Салехард и Уренгой, третья — в Березово, где тоже шумел газ, а четвертая прямо из Тюмени ехала на машинах к хлеборобам южных районов области.
Синим вечером наш теплоход отвалил от берега и вышел на вольный простор Иртыша. Писатели стояли на верхней палубе, смотрели на удалявшуюся кручу, увенчанную белой шапкой кремля, а у меня в душе саднила да саднила невысказанная печаль — волнующее предчувствие необходимости новой встречи с Тобольском.
Смотрела на берега и думала: здесь лет сто назад родился мой отец… У нас в семье никогда не говорили о нем: мать была сурово сдержанной в выражении своих чувств, а мы его не помнили… Что погнало его отсюда на амурские земли? Нужда? Избыток молодых сил? Жажда разбогатеть на золотых приисках? Словно наяву вижу в надвигающихся сумерках на древних улицах Тобольска, на пристанях его — веселого, крепкого, сероглазого сибиряка. Но как он ходил? Как говорил? Когда, с какою «ватагой» и каким путем прошел в верховья Амура, куда отовсюду пробирался сильный и смелый народ?
Что такое чувство родства? Отчего эта щемящая сердце печаль, ведь я совсем случайно попала в Тобольск…
Падает навстречу новый ажурный мост через Иртыш, движутся лесистые берега: плоский пойменный — слева, круто-обрывистый — справа. Бросалась ли в Иртыш красавица Сузги? Может быть, сказка?
Но отец мой, которого я видела только в младенчестве, и трагическая смерть его, которую он нашел вместо богатства на месте, где теперь будет дно Зейского моря, — это быль. И как бы мне хотелось теперь хоть что-нибудь узнать о нем, хотя бы год его рождения, канувший в глубину столетия!
Сейчас на палубе только вольный таежный ветер да я с грузом воспоминаний шестидесятилетнего человека, совсем не чувствующего своей старости, но поневоле ворочающего глыбами, горами временных наслоений.
Что там было в прошлом? Моя мать работала горничной у богачей Ворошиловых, живших на Зее-пристани, когда прошел слух, что у золотопромышленника Коптяева на прииске Полуденном зверски убиты беременная жена и малолетний сын. Смешливая в юности мать, услышав об этом в людской, отчего-то начала смеяться нервно, бурно.
«Как тебе не грех, Настенка!» — прикрикнула на нее старшая прислуга.
А потом Настенку увидел овдовевший Коптяев… Она пошла за него на троих осиротевших детей, и он увез ее с сестрой-подростком Анной в верховья Зеи, на тот Полуденный прииск, в тот дом, где были убиты его первая жена и сын.
«Вот натерпелись мы там страху, когда уезжал отец, — рассказывала мне однажды старушка-тетка. — В доме все было некрашеное и сколько ни мыли, ни скоблили, а на полу в передней проступали кровяные пятна, и на ставне, которым закрывали лаз в кухню, и на скобке двери, и на самой двери тоже… Убили-то Анну Ефимовну не сразу — пытали насчет золота. На глазах у ребятишек творилось такое. Старшенький Миша подбежал, и его тут же пробили ломом, которым и ее, после всех мучений, пронзили. Потом мы переехали на соседний прииск Южный, где ты родилась. Прииски-то по сравнению с нынешними — звание одно. Рядом, в тайге, ворошились мелкие артельки старателей. Рыли ямы, лотками мыли. А мы на стану жили. Дом на четыре комнаты с открытой верандой, кухня в стороне стояла под сопочкой — бегали туда по деревянному настилу. Стайка там, конюшня — в пристройку, качели для вас — ребят — под навесом. Да барачек, где жила семья рабочих. Вот и весь поселок. Был еще амбар (без окон), прирубленный к дому под одной крышей. Из этого амбара отец отпускал рабочим продукты, в нем его и убили».
Он работал раньше служащим в Верхне-Амурской компании, а после стал арендовать богом проклятые эти прииски. И как раз в тот год, когда ему на прииске Воскресенском попало богатое золотишко, случилась беда.
Характером он был веселый, гостей любил. Другой раз приедет один — заведет граммофон:
«Ну, Нюрча, давай плясать».
Пляшем. Мне коса мешает — тяжелая, светлая, как овсяный сноп, я ее оберну вокруг шеи, за пояс заткну и прыгаю, а он рядом чечетку бьет, покрикивает:
«Больше жару, Нюрча!»
Мать — домоседка — все с книжкой — она читать хорошо умела, — смотрит на нас, как на маленьких, да смеется. Но боялась она и на Южном и просила Дмитрия:
«Уедем отсюда. Убьют нас здесь».
Дмитрий Степанович говорил:
«Я один с десятком справлюсь. А ты ночи не бойся — дня бойся».
Они и явились днем, три китайца-хунхуза, и он пошел с ними в амбар — попросили продать крупы да лапши. А кроме него и матери, которая шила на веранде детское бельишко, из взрослых на стану никого не было (я в ту пору уже замуж вышла). Вы играли у кухни под навесом. И вдруг отец крикнул:
«Настя, спасайся!»
Она побежала, но не прятаться, а к нему. Китаец, стоявший на страже, догнал ее и рубанул топором в спину. Тогда она повернула к детям, и он ударил ее еще обухом по голове. Упала Настя среди двора… Старшие сестренки, которые видели смерть родной матери, бросились за рабочий барак, по мосту через ключ в пади, на дорогу к Дамбукинскому тракту и вас с собой утащили.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: