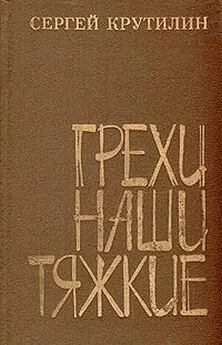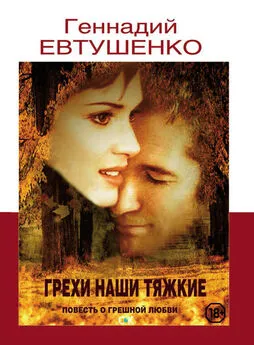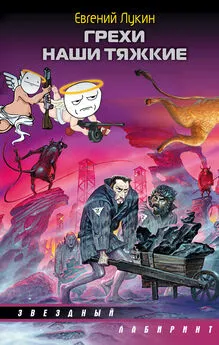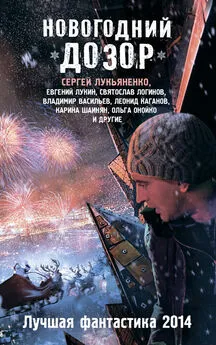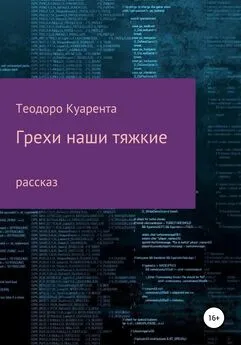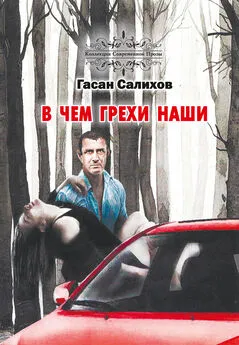Сергей Крутилин - Грехи наши тяжкие
- Название:Грехи наши тяжкие
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Современник
- Год:1982
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Крутилин - Грехи наши тяжкие краткое содержание
Сергей Крутилин, лауреат Государственной премии РСФСР за книгу «Липяги», представил на суд читателя свой новый роман «Грехи наши тяжкие». Произведение это многоплановое, остросюжетное. В нем отражены значительные и сложные проблемы развития сегодняшней деревни Нечерноземья.
Ответственность и долг человека перед землей — вот главная, всеобъемлющая мысль романа.
Грехи наши тяжкие - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— Фермы мы можем кое-как осилить. Фермы построили — и полвека никаких тебе забот.
— И с зерном никаких забот.
— Верно. Потому мы и цепляемся за зерно. Это единственное, что механизировано: машина пашет, сеет, убирает — и зерно готово. На молочнотоварных фермах, к сожалению, нет такой механизации. Потому и мала их продуктивность. А между тем мы живем по соседству с большими городами, насчитывающими миллионы людей. Это наша забота — снабжать их мясом, молоком, овощами. Вот, к примеру, совхоз «Успенский». Он всем показал, что настало время менять направление наших хозяйств, их специализацию. Он построил три птицефабрики. Каждая фабрика механизирована. Дает яиц столько, сколько их давал весь район. Завалили нас яйцами и бройлерами.
— Почему же вы не перенимаете его опыт? — заметил Грибанов. — Ведь от вас многое зависит.
— Их опыт… — повторила Долгачева чуть слышно. — Опыт этот пока что ударяет по интересам государства.
— Почему?
— Успенцы — исключение. Мы разрешили им изменить структуру посевных площадей. Они сеют зерно исключительно на корма птице. Трава растет лишь для питательной муки. Они не продают зерно государству, а дают лишь яйцо, молоко и мясо. А государству нужен еще и хлеб.
— А разве мясо — это не тот же хлеб?
— Нет! Мясо — это мясо. Хлеб — всему голова. А что зерно? Область наша дает зерна столько же, сколько его дает один целинный район. Но уж привыкли так: если мы даем по десяти центнеров вкруговую, то уж это победа. Звучат фанфары. А какая это победа? — слезы одни.
Грибанова взволновали мысли, высказанные Долгачевой. Он уже не мог усидеть. Юрий Митрофанович встал, принялся ходить по кабинету — взад-вперед.
— Ваши рассуждения, Екатерина Алексеевна, очень интересны, — сказал он, останавливаясь перед Долгачевой. — Заманчивы. Вы заглядываете вперед. И мысли эти высказывает не кто-нибудь, а вы — первый секретарь райкома. С этим сейчас считаются. Напишите об этом. Статья будет боевая.
— А для кого? — Екатерина Алексеевна вскинула глаза.
— Для газеты.
— А кто ее напечатает?
— Гм! — Грибанов задумался. — Как говорится, под лежач камень вода не течет. Вы напишите, а напечатать — это уж не ваша забота.
— Хитрый вы, Юрий Митрофанович, — проговорила Долгачева. Серые глаза ее, которые еще миг назад улыбались, потемнели, словно они уже видели то замешательство, которое вызовет она своей статьей — и не в районе вовсе, а в области.
— Нет, серьезно! Подумайте!
— Хорошо, я подумаю.
— Да. Значит, я скоро привезу группу студентов и мы начнем. Давайте договоримся о плане нашей работы: с какого колхоза или совхоза мы начнем беседы? Какова будет последовательность?
Грибанов присел рядом, и они заговорили обо всем подробно — и о том, сколько в хозяйствах работающих, и о школах, и о молодежи.
Это отняло не менее часа.
Подымаясь, Грибанов вновь напомнил о статье, над которой обещала подумать Долгачева, и сказал, что будет заходить к ней по ходу работы.
— Заходите, вам всегда двери открыты, — Долгачева встала из-за стола.
Грибанов пожал ей руку, взял плащ, портфель и вышел.
Рука у него была крепкая.
Часть вторая
1
Бывало, когда игралась свадьба в деревне?
Осенью, на михайлов день, да весною, на красную горку. Зима пошла уже на убыль, и мужик, значит, о весне думает. А дума его такая: пора сыну приводить новую работницу в дом. Старуха сдавать стала: чугунок со щами с трудом вытаскивает из устья печи. Да и в поле кому-то управляться надо. Жена совсем работать не может — голова кружиться, тоги и гляди, упадет.
Тогда-то отец и поглядывает на старшего сына. Уж какой год с девками гуртуется, пора и черед знать, женой обзаводиться. Тогда-то в семье и затевается разговор о свадьбе — о том, когда играть, какую девку брать да как выкроить жилье молодым.
И она, Прасковья, помнит, что ее свадьба, когда она выходила за Алексея, тоже была на красную горку. Пасха в тот год случилась поздняя, чуть ли не на май. На красную горку колхозники уже пахали и сеяли овес. Женихаться было некогда, свадьбу свернули за один день.
Алексей привел ее. Они отзанавесили себе угол в избе, где стояла их деревянная кровать, и так Прасковья оказалась в сысоевском доме. Теперь, поди, ни одна из девок и слова такого не знает — молодая. А бывало, слово это за тобой, как тень, по пятам ходит. Раньше других встань, печку растопи, картошку почисть, свари — и все молодая, поскорей поворачивайся!
Сейчас в селе женятся как и в городе, когда приспичило, тогда и свадьбу играют. Да и свадьбы справляют по-городскому. Никто не вспомнит родительскую избу. У всех мотоциклы да машины — свадьбы справляют в ресторанах.
И никто не вспомнить, как играли свадьбу в старину.
Бывало, к свадьбе всю неделю брагу варят, шьют невесте подвенечное платье, сундук сколачивают, блестящей фольгой его обивают.
Какая же ты невеста без своего сундука? В нем, конечно, приданое: холсты, сарафаны, поневы, галоши. Отдельно — постель, чтоб атласное одеяло было, две-три подушки. И все это — и сундук, и постель — везется на повозке, чтоб все люди видели. Сейчас другое: чтоб машина была с лентами, с пластмассовыми куклами на капоте. И чтоб неслась она не сама по себе, а в сопровождении молоциклеток. Чтоб вся округа видела и знала, что едут, трубят.
И в ресторане чтоб музыка была, и играла не как-нибудь, а во всех четырех углах сразу. А того не знают, что многие, может, их музыку и слушать не хотят. Тьфу!
Толкуют, пекутся о каких-то мелочах, о лентах для машины. А о самом главном — где они будут жить после свадьбы? — о том ни слова. Прасковья всяко пыталась Лешины планы выведать: и сама спрашивала у сына, и стороной, через других людей, что он думает. Но ничего толком не узнала. Узнала, что будто они отдельно жить собираются, и не в деревне, а в городе.
Рушилась их с Игнатом мечта.
Они мечтали: разу уж Леша с ними в деревне остался, то сделать из избы пятистенок. Пристроить к старой избе прируб с четырьмя окнами, попросторнее. А заодно и водяное отопление провести, как у других. Чай, они не беднее соседей. В избе жили б они, старики, а новый прируб отвели бы им, молодым. Жили бы они на всем готовом, как у Христа за пазухой. Утром встали бы — за водой не бежать, завтрак готов: «Пожалуйста, молодежь, кушайте». Изба чистая, белье вовремя постирано, поглажено. На работу им надо — до совхоза рукой подать. Какая езда — четверть часа на автобусе? В автобусе не хочешь — машина есть: муженек до совхоза-то всегда подбросит, коль каждый день ездить за Варгиным.
Глядишь, через год в пристройке голос детский: внучек появился. А появился внучек, значит, не умер род Чернавиных, жить будет.
Но Зинку разве уговоришь уехать из совхоза. Каморка ихняя хоть в бараке находится, но зато считай что в городе. Невесту небось не заставишь переселиться из города-то в деревню, к мужу. Уж горожане все за нее передумали. Не может того быть.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: