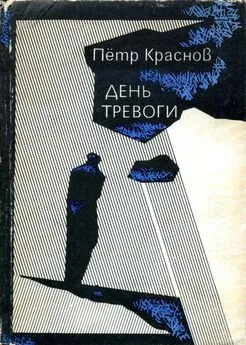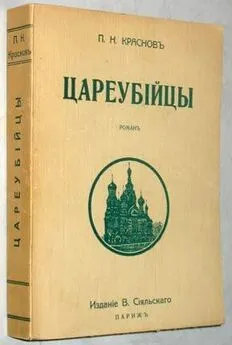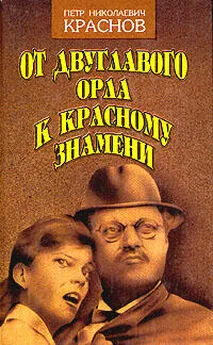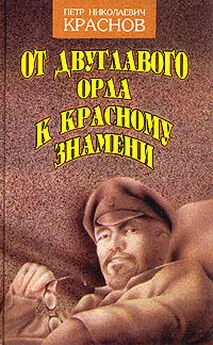Петр Краснов - День тревоги
- Название:День тревоги
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Южно-Уральское книжное издательство
- Год:1980
- Город:Челябинск
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Петр Краснов - День тревоги краткое содержание
Тревога за человека — главная движущая сила и пафос творчества молодого оренбургского прозаика. Но в боязни утери человеком человеческого, в боли за человека П. Краснов остается на позициях подлинного оптимизма, он силен верой в добро, любовью к земле, к людям, живущим на ней.
День тревоги - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Он попал под Псков, и когда их фронт перешел в наступление, понял, до конца теперь, что это за штука такая — война. Они проходили через дымящиеся еще развалины сел, через безлюдье и дикость их, мимо загаженных колодцев и тяжелого на подъем воронья… Еще годков с семи отец исподволь приучал ею к работе, позже стал заставлять делать и вовсе непосильное: ходить за цабаном [1] Конный плуг.
отматывать руки на лобогрейке — а работа по хозяйству не только не была ему в тягость, но радовала всегда, грела сердце мыслью, что порядок у тебя первостатейный, что все у места, в деле, с расчетом на годы и годы… И теперь он глядел на пепел и поруху незнакомых степняку лесных деревень с жалостью, с тоскливой злобой — в какой разор ввели, паскудники! Им-то, вонючим, куда как легко, сволочам — ширкнул зажигалкой и драпа, а нашим теперь живи, ночуй под елкой… Паскудная это нация — немцы, в самое больное место метят, знают…
Потом они вступили в один из партизанских районов. И в первом же местечке на околице торчала видная издалека, зловеще знакомая в простоте и грубости своей виселица. Под ее перекладиной на коротких веревках висели в мертвой недвижимости два вытянутых непомерно трупа, стыли. Семен, сняв шапку, стоял, смотрел, пока их, связанных, снимали — двух его одногодков. Страх и отвращение, которые он питал всегда к мертвецам, прошли, он стоял, горько жалел их, в муках умеревших неизвестно за что, тосковал, все вспоминал — все прожитое стало зряшным, недорогим, ненужным ему теперь. Как-то по-другому надо было жить, а как — не знал он. Только не по-старому.
Им навстречу выходили из лесов полуодичалые люди, иногда целыми деревнями. Многие из них прожили в землянках, в самой глухой чащобе, всю оккупацию. Молодая исхудавшая баба в опорках и солдатском ватнике припала к его плечу, обнимая исступленно и жадно, как родного, давясь слезами, прерывистым горестным воем, жалуясь без слов. Кругом с обессиленной радостью гомонили, кричали что-то ее земляки, раз за разом палил в небо из дробовика старик, а впереди уже кликали командиры, двинулись дальше солдаты, на ходу выстраиваясь в походную колонну… Он расцепил ее руки, растерянно и торопливо поцеловал в мокрую щеку, в волосы и побежал догонять своих…
Стыд и злость первых дней наступления сменились потом уверенной ненавистью, заставлявшей его вырываться вперед в атаках, с охотой идти на особые задания. Но покоя, мирного житья с собой не выходило. Он получил еще две медали, ценился у командиров, хотя их и настораживала его неуемная, неразборчивая какая-то злоба к немцам. Было в ней что-то темное и слепое, как у крестьян к конокрадам, — убить, не глядя ни на что, сжечь дотла, разорить… Он перестал брать пленных, все лютел, и на первых порах ему прощали все за природную смелость, за надежность в деле, оправдывали молодостью. Но уже в Восточной Пруссии спохватились, и он не угодил под трибунал только потому, что был ранен в руку. По случайности Семен попал в другой медсанбат и вскоре с новым формированием был переброшен на Дальний Восток. Он закончил войну в порту Дальнем и в марте сорок шестого был, по состоянию здоровья, демобилизован.
Встретили его в Подстепках сдержанно, с некоторым удивлением — понимали, что три боевых медали за здорово живешь не получить. Знали тогда цену этим медалям. Все эти годы он не написал домой ни строчки, и смерть отца, годом раньше, его колыхнула, хоть и ненадолго. Теперь-то он все понимал, и потому досада его и горечь, что все так глупо вышло, не осаживалась, не забывалась… Архип Дерябин вернулся через несколько лет старым, будто с перебитой хребтиной, — меньше работал, запил запойно и не протянул и лета, умер нищим.
Семен женился на молодой солдатской вдове, молчаливой работящей Евдокии. С первого же и единственного застолья свадьба была смята комом: один из его ровесников, бывший старшина, выпив, плакал, поминал убиенных, скрипел на кого-то зубами; а потом, в ответ на предложение Семена выпить вместе, вдруг выплеснул наливку себе под ноги, грохнул стакан об пол и сказал хрипло, с озлобленным сапом втягивая в себя воздух: «Нет, парень, с тобой я пить отказываюсь… они мне с дезертиром пить не позволят, и я отказываюсь! Я тебе, гад наряженный, чужой жених — не компания, мне это дюже срамотно… с тобой-то!»
В драке Семену переломили руку, как раз ту, что немела по ночам от старого ранения. Утром он молчаливо, под испуганным взглядом жены скидал в узел свое немногое тряпье; вышел на заросшее муравой подворье, долго сидел на пороге, уставившись потухшими, кровяными с похмелья глазами в коноплянские луга. Из приоткрытой двери избы все слышал с полатей тоскливый, будто под ударами вскрикивающий голос парализованной матери: «Сынок… родименький мой! Да где ж ты, сынок?! Погоди, кровинушка моя… почто оставляешь, сжалуйся, родименький!..» Вышла Евдокия, тихо поставила рядом на приступке стакан водки, робея и страшась сунулась лицом к нему в колени и заплакала, затряслась мелко худыми плечами… Семен здоровой рукой гладил ее волосы, и сам бешено и беззвучно плакал, отворотясь, и в нем ничего не было, кроме смертной и неизливаемой обиды на жизнь и еще жалости к этим двум женщинам. Потом они сидели в избе одни, тесно обнявшись, и пили, излишне много пили, а мать, свесив неприбранную, седую и сухую голову с полатей, смотрела на них, и, видно, опять молилась, и все повторяла: «А вы пейте, родимые, оно полегчает, отойдет… Не стесняйте друг дружку, пейте…» Когда он проснулся к вечеру, узел был уже разобран, и он опять уснул, и так и никуда не уехал.
Как это они быстро тогда сговорились, смыкнулись, чертово семя, с тоской спрашивал он себя потом. Окрутили, а вот теперь он, он один расхлебывает эту кашу, не кто другой!.. Не выходить бы тогда на подворье, душу не травить, а уехать не прощамшись к черту на рога! Мать и Катерина бы призрела, вон у них с зятем какой домина… Дожалелся, а кто его теперь пожалеет?! Детей нет, да и Евдокия не та теперь, чтоб жалеть, — кто пожалеет?
Он каждый раз заново и остро переживал и ту, первую, и более поздние свои попытки уехать, когда жить становилось уже совсем невмоготу. Не то чтоб донимали его беспрестанно, на углах останавливали — нет; если ему когда и говорили об этом прямо, то раза три-четыре за все прошедшие времена, да и то по пьянке. Но он всегда потом ждал, каждый день и час своей жизни на людях ждал, что вот кто-то по дури своей или по умыслу брякнет, намекнет отвратно в подходящем месте разговора, недоговорит, усмехнется… Ждал потому, что так оно всегда и выходило, и жизнь его тяжелела, наслаивалась год за годом изощрившимися подозрениями, обидами — большей частью незаслуженными и от этого вдвойне горькими. Обо всем забывали и уже многое в жизни своей не помнили люди, а вот про него — нет, не забывали… Он понимал, что и сам виноват — не надо бы ему обращать внимания на всякую мелочь, не дразнить людей своей гордостью. Ну, пошутили бы раз-другой, хоть бы и со злом, он тоже бы отшутился или промолчал — на том и делу конец. Но так у него не выходило тогда, а теперь уже и подавно; и получалось, что сам он то ругней, а то и драками напоминал им о старой вине, о беде своей… И все же — в ночных бдениях, в долгих ли думах на пахоте — он приходил всегда к одному: не правы они, почем зря злобствуют, не дают ему покоя. В конце концов, он в этом и не сомневался. Только ведь хотелось, чтобы и они его поняли, как человека, приняли к себе таким, какой он есть: со своей гордостью и совестью. Ради этого стоило было и ругаться и все прочее.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: