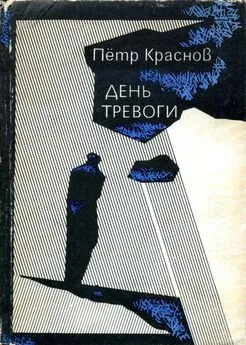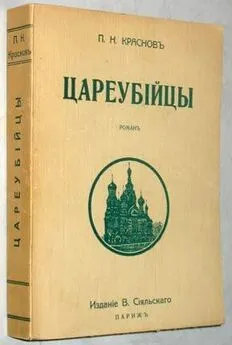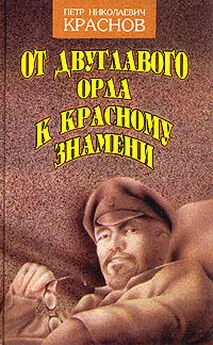Петр Краснов - День тревоги
- Название:День тревоги
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Южно-Уральское книжное издательство
- Год:1980
- Город:Челябинск
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Петр Краснов - День тревоги краткое содержание
Тревога за человека — главная движущая сила и пафос творчества молодого оренбургского прозаика. Но в боязни утери человеком человеческого, в боли за человека П. Краснов остается на позициях подлинного оптимизма, он силен верой в добро, любовью к земле, к людям, живущим на ней.
День тревоги - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— Дождь помочит — солнце высушит, — сказал отец и подмигнул Кольке. — Ничего. Ему еще назавтре работа.
— Какая такая? — вскинулась было мать.
— А валки на огороде поворошить, вот какая. Дождь-то был? — был. Вот пусть и посушит, невелик труд. И верши в обед проведать надо. Чай, не девка — помощник растет.
Федька, старший брат, все лето работавший на стройке нового коровника, уже ушел в клуб. Они ужинали втроем жареной картошкой и молоком, и Колька почти клевал носом — так вдруг, ни с того ни с сего, захотелось спать и устали ноги. Мать и отец переглянулись, усмехнулись друг другу.
— Что ж, опять спать на лапас пойдешь?
— Ага, — сказал Колька и кивнул отяжелевшей головой. — А мне дед какой охвостник сплел…
Отец помог ему закинуть на плоскую соломенную крышу лапаса тулуп с подушкой и одеялом. Колька по лестнице залез туда, расстелил тулуп под боком у копешки нового сенца, накошенного отцом по логам. После дождя оно пахло духмяно, свежо; и воздух был тонок и свеж, и пока он раздевался, ему стало зябко, отчего вдвое приятнее было залезть под одеяло на пахучую овчину, положить голову на подушку и прикрыть глаза… Пошли у него перед глазами телята, помахивая хвостами и неловко, деревянно переступая задними ногами, виделась прогретая солнцем, светлая в желтеющих травах Надежкина лощина, дед Иван разувался и гладил, растирая свои старые ноги, и щурился на светило, спрашивал: «Как ты думаешь, спомнють?..», а кузнечики шевелились и бились в Колькиной руке длинными царапкими ножками, пуская коричневый деготок… Кузнечик-кузнечик, дай деготок! Кузнечик дал и, отпущенный, летел в степные злаки и цветы, трепеща ярко-красными сухими крыльями, сам как цветок…
Он проснулся где-то заполночь и увидел над собой чудесное ночное небо, все в крупных и мелких спокойных звездах. Они горели голубоватым пламенем так далеко и ярко, что он вдруг почувствовал это расстояние и весь, до дрожи, пронзился им, сладко ужаснулся открывшемуся и опять заснул; и никогда потом он не мог т а к понять и т а к ужаснуться, желал он этого или не желал…
На заре сквозь сны он слышал звяканье подойника в материнских руках, кагаканье гусиных корогодов, провожаемых в речные луга, раза два над самым ухом, казалось, орал петух; но это не только не пробудило, а еще сильнее усыпило его, счастливого, что никуда ему торопиться не надо, что он может вволю спать и только иногда, сквозь негу и сладость зоревого сна, слышать отголоски чужих хлопот…
Я люблю тебя, детство, потому что твой дар самый нежный, самый бесценный и памятный из всех, что может получить человек за свою неспокойную жизнь на земле.
Ужинать сели, когда скотина была уже управлена и улеглась отдыхать. Мать, тяжело ступая, собирала на стол: принесла и намяла с маслом сливной каши, подала лучку, малосольных огурцов, поставила, обтерев фартуком, запотевший бидончик с молоком из погреба — берегла утрешник, знала, что он больше любит холодное, не парное. Николай с отцом выпили по стаканчику «стречной», не торопясь закусывали.
— Садись, мать, хватит таскаться-то, — сказал отец. — И этого достанет. Выпей вот с нами — чай, не каждый день сыновья приезжают.
— Нет уж, — отмахнулась мать, ей и так было хорошо — сын приехал, навестил. — Видно, отпила я свое, ноги не ходют.
— А то выпила бы, все равно отдыхать-то.
Мать осторожно взяла стаканчик, пригубила, улыбнувшись сыну радостно и благодарно, и у Николая сжалось сердце. Что еще он мог сделать для них?
— Садись, мам, что стоя-то… Весь день ведь на ногах.
— Вы ешьте, а я сяду… Сяду, только вот сметаны принесу.
— Ну, стеречь вам с соседом только в Надежкиной лощине да у реки, больше негде, — говорил отец, немножко захмелев. — Скоро вот уборку начнут, на ржище можно будет гонять; ну, а пока там. Да выше по лощине-то поднимитесь, там все трава посвежее…
— Что ж, на Богатые покосы коров не гоняют теперь?
— Были богатые, — усмехнулся отец. — Да ты сам весной был, видел — взять там нечего, на Богатых-то… А стойло все на том же месте, у родничков.
— Знаю, — сказал Николай. — Рядом с телячьим.
— Вот-вот. А из стойла выгоните — так можно и в лугу, у реки, потереть скотину до вечера. В восемь и гоните домой. Мать вон уже и сумку тебе собрала.
— Палка-то есть какая-нибудь, батажок? А то в прошлый раз ни кнута, ни палки; со штакетиной пришлось, пока в лесопосадке не вырезал…
— Кнутишко нашелся, — засмеялся отец. — Твой еще, старый. Полез надысь под насест, к курям за яйцами, — а он под стропилой заткнут, дожидается. Кожа высохла, а так ничего, годится. Ну, думаю, сделаю им стречу — дружок по малолетству, как-никак. Вон он в сенцах висит, в углу.
Николай вышел ко двору покурить перед сном, захватил и кнут. Сел на скамейку и стал разглядывать его в свете, падающем из окон дома. Сыромятная кожа плетенки и правда высохла, потрескалась даже и еле гнулась, на кнутовище, отполированном его и братниной, Федькиной, руками увидел он давно вырезанные их имена… Далеко сейчас Федька отсюда, аж на Дону, в Серафимовиче. И там степь есть, хоть и не наша, не уральская… Ну, а кожа отойдет завтра в росе, отмягчеет. Цел и охвостник, сплетенный когда-то дедом Иваном. Сам старик умер года два назад, осталась одна бабка, и соседское подворье запустело, высокая соломенная крыша сарая, сложенного из белого плитняка, местами прогнила, провалилась, покосились ставни дома и палисадник сплошь зарос голенастым будылистым топинамбуром, похожим на подсолнечник на скудной сухой земле…
Ночь уже наступила, хотя в стороне заката небо еще слабо светилось, синело, на его фоне очень четко, каждым листком видны были тополя и высокая береза соседского сада, сухо шелестящие на легком ночном ветерке с заречных долин. Шелестели и не видные отсюда осинки, неведомо как попавшие и прижившиеся в отцовском саду, лепетали что-то свое, торопливое и бредовое. Во тьме, покрывающей село, жили звуки: вот заскрипело крылечко, стукнула дверь; заливисто затявкала и враз смолкла собачонка, ей на другом конце ответила, забухала басом другая, а потом на луговине перед начальной школой запиликала невнятно гармонь, кто-то праздновал там свою молодость… Поплыл, завилял поперек улицы красноватый светлячок чьей-то поздней цигарки, а за рекой над плоскогорьями понемногу разгоралось тяжелое багровое зарево, осветляя долину и неровные берега — там всходила луна. И от этого неумолимого зарева, от ропщущей несмело и тревожно тишины, залегшей в темноту округи, легкая тоска схватила его за сердце и не отпускала.
Здесь родина моя, родина всего, что есть во мне. Оно потеряно, его не наверстать теперь — но живо. Что-то доживает еще здесь мое, оставшееся навсегда. Его встретишь везде — в уголках заброшенных, заросших муравой и лепешками глухих задворок, где играли мы когда-то, в запущенном родительском саду, на излучине реки, в голом печальном овражке степи — встретишь, узнаешь родное и как можешь поймешь тоску свою…
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: