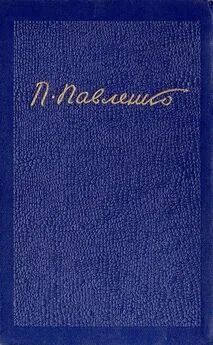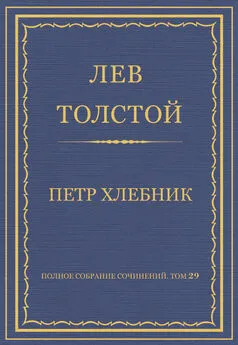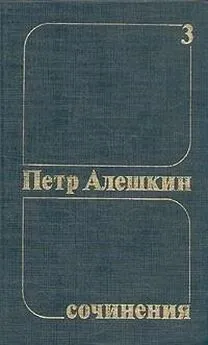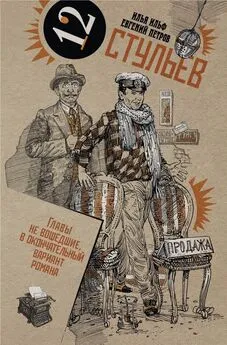Петр Павленко - Собрание сочинений. Том 5
- Название:Собрание сочинений. Том 5
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Государственное издательство художественной литературы
- Год:1953
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Петр Павленко - Собрание сочинений. Том 5 краткое содержание
В настоящий том включены очерки П. А. Павленко периода 1930–1951 годов. Расположены они в хронологическом порядке по двум основным разделам:
Первый раздел включает в себя очерки 1930–1948 годов, написанные о жизни Советской Страны, и объединяет: книгу очерков «Путешествие в Туркменистан» (1930–1933), очерки 1934–1940 годов, очерки периода Великой Отечественной войны (1941–1945) и, наконец, послевоенные очерки о Крыме (1946–1948).
Второй раздел — очерки периода 1948–1951 годов, написанные на материале зарубежных стран: «Прага», «Американские впечатления» и «Молодая Германия», объединенные темой борьбы мир.
Собрание сочинений. Том 5 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— Теперь пригляделись! — сказал дорожный сторож, которого я спросил, нравится ль ему ночной Днепр. — Теперь как будто всегда так было. А в первые годы ужас что делалось. Целые делегации ездили по ночам, ей-богу. Смотрят, поют, в ладоши хлопают. Издалека народ приезжал посмотреть. Старики говорили: «Днепр, вишь, зажгли…» В степу собаки, как ночь, так, бывало, и воют, так и воют — пожар, думают. Да ведь эдакое вознесли! Вы зимой не бывали у нас? Кругом снег, бело, а он — горит! И снег от него далеко розовый…
…Мосты через Днепр. Зеленые звезды речных сигналов, и темные контуры рыбачьих лодок, и синяя белизна хат у берега, и отсветы багрового неба в черной синеве воды под мостами…
И плотина! Ее очень трудно описывать, потому что не с чем сравнить. Сейчас она не сооружение, а образ, явление, случай в природе. День расставит предметы и разложит расстояния в реалистическом порядке, более точном, хотя и более будничном, — а ночь, сжав пространства, оставляет одну, но самую верную, эмоциональную черту места; одну, но самую запоминающуюся примету его.
Здешние приметы — огонь; в таких масштабах и формах, каких, кажется, нет нигде, потому что ни в каком другом углу мира нет Днепрогэса и Днепра, и широчайших украинских степей, и легкого украинского неба. Здесь царство огня, энергии, простора.
В Дагестане, недалеко от железнодорожной линии на Баку, выходят из земли горящие газы. Среди пустынных солончаков пылал высокий пламень, зажженный нечаянно самой природой. Им любовались. Пламя было красиво и необычно. А на Днепре были пороги. Их затопили. Загородили реку плотиной. Вокруг построили города и заводы. И от воды возникло горение неба, полное радости.
— Дичь круто изменилась, — говорит мне сторож. — Такая ученая стала, стерва, аж досада берет. Или заяц — нипочем огня не боится. Некоторые склоняются, что даже потепление будет, да то брехня, верно. Я б заметил, — у меня огород имеется. Но того пока нет. Измеряли.
Будь у меня время, долго б глядел я на пожар летней днепровской ночи, как глядят на море в час солнечного заката, на горы, на льды ледников, на облака, на звезды, наполняясь бессмертием виденного и сливая с ним себя, как неотделимую часть.
1938
Ферганский почин
Первого августа колхозники Ферганской долины вышли на пробитую инженерами тропу большого канала. Через сады, пустыри и старые глиняные дома он пройдет двести семьдесят километров, от границ Киргизии к рубежам Таджикистана, — и через месяц-другой миллион людей навсегда перестанет бояться безводья.
О Ферганском почине сложат песни и будут долго вспоминать его — как начало великого движения.
Весною этого года мираб Урутджан Расулев предложил колхозникам Маргелана самим, на свои средства, построить Ляганский канал длиною в двадцать три километра. Ляганский канал, сооруженный в семнадцать дней, был первым каналом, выстроенным колхозами; это первая стройка, на которую не вербовали, а избирали голосованием, первая трудовая олимпиада колхозов.
Урутджан Расулев высказал то, о чем давно мечтали и думали тысячи здешних людей.
Там, где сельское хозяйство немыслимо без орошения, хозяин жизни тот, кто владеет водой. Сложная сеть водных каналов, прорезающая области, районы, колхозы и усадьбы, напоминает, когда рассматриваешь ее на ирригационной карте, нервную систему организма. Стоит нарушить нормальную деятельность любого такого нервного узла, как весь сложный и тонкий организм хозяйства испытывает недомогание.
Тот, кто владел водою, владел всем. Никогда ни один деспот не мог проявить своей силы с такой беспощадной решительностью, как это делали эмиры Средней Азии. Популярный в старых войнах отвод воды от осаждаемой крепости был здесь особенно страшен. И потому он особенно часто применялся по всяким поводам — и против крепостей, и против непокорных районов, и против строительных селений, и, наконец, против людей, нежелательных в пределах селений.
Водою воевали, водою платили калым за невесту и — самое главное — водою правили. Естественно, что роды крепко держались за свои родные арыки, — и были роды, богатые водой, и были роды, водою бедные. Война за воду шла от эмиров, ханов и беков к простым жилищам дехкан и не прекращалась столетиями. История завоевания воды создавала и образы эпических богатырей и образы ростовщиков — «помещиков воды».
Зависимость от воды крепко держала бедняков-дехкан в руках баев, ростовщиков и духовенства.
С приходом советской власти все изменилось. Вода перешла в руки государства и им одним распределяется между трудящимися — по нуждам и потребностям различных местностей.
С годами расширялись площади посевов, улучшалась и исправлялась сеть каналов, росло благосостояние дехкан. И люди захотели иметь больше воды, чем они до сих пор имели.
Бесцельно уходящая, праздная вода рек стала раздражать их, как явный беспорядок.
Люди захотели прибрать воду к рукам.
Мечты об этом родились, конечно, всюду — и в Туркмении, и в Таджикистане, и в Узбекистане, — всюду, где под боком была неиспользованная вода.
Мечтали о воде все, но первыми осуществили эту мечту колхозники Ферганской долины Узбекистана.
Это произошло даже несколько неожиданно, весною этого года, на слете колхозников-стахановцев Маргелана. Говорили, конечно, о воде, о том, что ее всегда не хватает, что можно было бы построить канал своими средствами. Говорили, что правило о том, чтобы строить каналы на цементе, не так уж правильно, если его понимать буквально.
— Не железную же дорогу мы хотим строить, — рассуждали колхозники. — На что нам цемент и железо? Для плотин и сооружений? Хоп! Так пускай лет пять-шесть постоит канал на самодельной технике, а когда будет больше цемента — улучшим его.
Вот тогда-то мираб Расулев и высказал мысль: соорудить Ляганский канал в честь XVIII съезда ВКП(б).
Еще в феврале этого года строительство канала длиной в двадцать три километра силами колхозов казалось начинанием почти дерзким. Никто не знал, чем оно могло кончиться. Казалось легкомыслием — собрать четырнадцать тысяч человек, не имея в распоряжении строительства ни лопат, ни куска хлеба, — ничего, кроме планов и проектов самого сооружения.
Колхозы показали образец дисциплины и плановости. Они вышли на работу со своими поварами и запасом продовольствия, с оркестрами и хорами, со своими кетменями и тачками, и стройка, планируемая на год, была закончена в семнадцать дней.
И тотчас зародилась мысль о Большом Ферганском канале. Попробовав свои силы на небольшом деле, ферганцы были уверены теперь в новом успехе.
Ляган вызвал множество подражаний. В Ташкенте, в Бухаре, в Самарканде — всюду строили маленькие районные каналы, но гигантское дело было сейчас под силу, пожалуй, только одной Фергане. Именно здесь, в области, напоминающей стокилометровый сплошной сад, сеть каналов разветвлена особенно густо, воды больше, культура сельского хозяйства выше и совершеннее, а колхозы сильнее и богаче, чем в других областях.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: