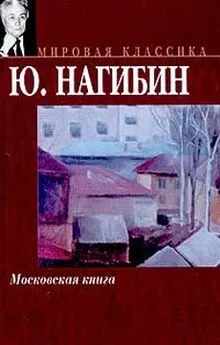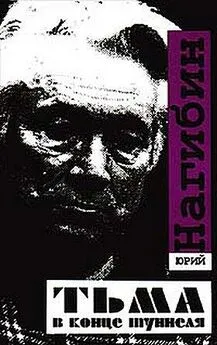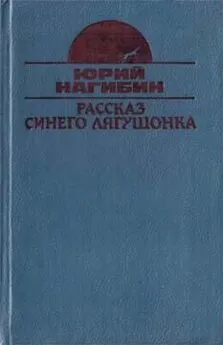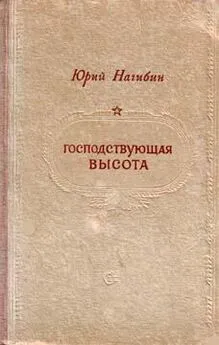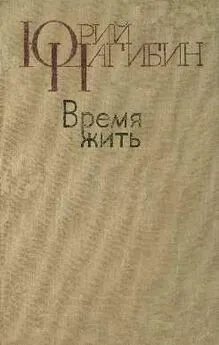Юрий Нагибин - Дом № 7
- Название:Дом № 7
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:АСТ
- Год:2005
- Город:Москва
- ISBN:5-17-026648-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Юрий Нагибин - Дом № 7 краткое содержание
Дом № 7 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Юрий Нагибин
Дом № 7
Бывает механическая память, очень нужная и полезная; она хранит для нас имена, отчества и фамилии, номера телефонов, адреса, дни рождений, свадебных годовщин наших знакомых, помогает сдавать экзамены по дисциплинам, не требующим особой сообразительности, например по истории, всячески облегчает бытовую жизнь. Этой памяти можно верить: она или есть, или ее нет, тут все ясно. Но вот иная, душевная, память являет собой некий род творчества, и полагаться на нее никак нельзя. И чем сильнее подобная память у человека, тем сомнительнее ее показатели. Доверять ей можно лишь с теми внутренними оговорками, с какими мы соглашаемся признавать тождество поэта с его лирическим героем. Конечно, пушкинское «Я помню чудное мгновенье» говорит о невыдуманной любви к женщине и о страдании, которое он испытывал в разлуке с ней. Но если мы будем считать это полной, единственной, исчерпывающей правдой его отношения к Анне Петровне Керн, то как быть с известным письмом, адресованным брату? Душевная память — тоже поэт, она производит отбор, шлифует, обрабатывает явления жизни, прежде чем дать им место в себе. Работа памяти — бессознательное, или, вернее, подсознательное творчество. Это надо твердо знать, когда берешься рассказывать о прошлом, если хочешь оставаться честным в собственных глазах.
Неужели в самом деле могло быть, чтобы всякий раз, когда я выходил к Армянскому переулку из Златоустинского — а это случалось нередко, — небо оказывалось ярко-синим, в белых чистых облаках и угол высокого дома № 7, золотистый от солнца, плыл навстречу им по небесному кобальту? Я имею в виду угол дома на высоте последнего этажа, под крышей. Иногда там блистали сосульки, свешивающиеся с карниза, но чаще вызолоченная гладь стены была по-летнему сухой. Тут я вполне доверяю своей памяти: обычно я шел Златоустинским, возвращаясь с книжного развала у китайской стены, а развал этот существовал от весны до осени. Зимой же я попадал в Златоустинский, лишь когда ходил на плохонький каток при клубе металлистов. Нас, армянских, там не признавали, подвергали гонению, и мы редко отваживались появляться на вражеской территории.
Златоустинский переулок круто подымался к Армянскому булыжной узкой мостовой и плитняком тротуаров. Ныне, реконструированный, он уже не выглядит столь отлогим. Снизу казалось, что Златоустинский упирается в дом № 7. Венчая собой крутизну, дом становился выше и величественней, нежели на самом деле, хотя он и так был самым рослым домом в Армянском переулке. Его светлый угол под крышей, плывущей по сини небес, был так высок, что приходилось задирать голову, дабы любоваться им. И то крошечное головокружение, какое испытываешь, оставаясь долго с задранной головой, входило в ощущение неизменно постигавшего меня счастья, даже усиливало его.
Но отчего испытывал я счастье, что рисовалось моему воображению, наполняло всего меня трепетом, надеждой, восторгом? Выше я обмолвился словом «плыл». Да, угол дома плыл, ибо плыло на него небо с облаками. Самое нехитрое — предположить, что мне зрилось море и нос корабля — непременные атрибуты детской романтики. До поры я и довольствовался этим простым объяснением, пока вдруг не вспомнил, что никогда не испытывал любви к морю. Сперва я не любил книжки про море, потом — самое море. Оно давило меня своим однообразием. Ну конечно, оно разное: сегодня тихое, завтра бурное, а там и штормовое. Но внутри каждого состояния море одно и то же. Когда тихое, то надоедает своей тихостью, когда штормовое, одуряет однообразием накатов, громких ударов, брызг, каким-то регламентированным беспорядком.
И почему-то все певцы моря не могли убедить меня в пленительности этой стихии. Я не верил их восторгам, казавшимся мне надуманными и холодными. У всех литературных капитанов лучше и трогательнее всего получается возвращение в порт. Да и расставание с берегом нередко удается, а потом, какой бы род изображения морского пейзажа они ни избрали: нарочито деловой, лирически сдержанный или бурно эмоциональный, — что-то натужное, фальшивое появляется в их голосе.
Я пишу это не ради того, чтобы признаться в нелюбви к морю, — мне нужно освободить свои воспоминания о пережитых мгновениях счастья от морских ассоциаций. Сколько раз в трудные минуты жизни являлся мне светлый угол дома на ярко блистающей синеве и делал меня счастливым. В странной небрежности к собственной душевной жизни я безмятежно впускал в себя банальный образ корабля и моря. Видимо, и душе угодны штампы для некоторой экономичности работы.
Я задумался над тем, что же в самом деле означает для меня старый символ, лишь недавно, когда на пороге пятидесятилетия меня вновь потянуло к дням детства, к дням своего начала.
Я понял, что опять буду писать рассказы о той поре, хотя бы из одного удовольствия произносить такие забытые названия, как Златоустинский, Петроверигский, Старосадский, Архангельский, Покровка, Маросейка. Ну конечно, и не только ради этого…
Вовсе не раздумывая, откуда войти в утраченный мир, вернее, предоставив раздумье тому закулисному, что определяет многие наши поступки, не оповещая о своей работе поверхностный мозг, выкладывая лишь конечный результат, я не очень удивился, что погружение в прошлое началось с восхождения по Златоустинскому. Очевидно, тайны внезапных наитий счастья хотелось мне коснуться прежде всего.
То был прескверный апрельский день, один из тех дней, когда весна будто признается в своем бессилии настать. Пухлые серые тучи, напоминающие грязную вату оконных межрамий, слякоть, скользкий воздух, оседающий противно холодной влагой чужих слез на лице, и под стать окружающему — сырость и муть на душе. Сейчас все это здорово объясняется давлением — атмосферным и кровяным, но легче почему-то не становится. Я тащился вверх по Златоустинскому тяжелой походкой грузного, пожилого человека, и переулок не вызывал во мне ни радостных, ни печальных дум. Тут что-то строили, и дощатый забор вокруг стройки и дощатый настил вместо тротуара по четной стороне делали вовсе чужим этот переулок, к тому же сменивший имя.
Добравшись до Армянского, я увидел, что в небесной хмари открылись полыньи-просветы и самая большая полынья, — синь, подернутая белой кисеей, — приходится как раз на дом № 7. Я сдержал шаг — четкий, резкий угол дома по-прежнему сильно рассекал пространство.
И вовсе не радостная память, не былое вспыхнуло во мне, а живое, принадлежащее моей нынешней душе чувство счастья. И уже не властен был надо мною тревожный день черной весны со всем своим ненастьем, и все ненастье состарившегося во мне времени ничего не могло поделать со мной.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: