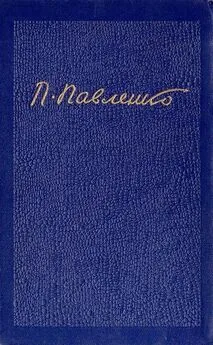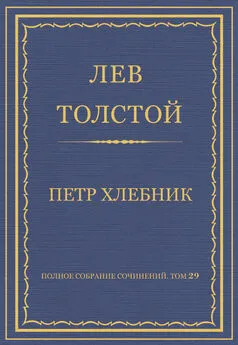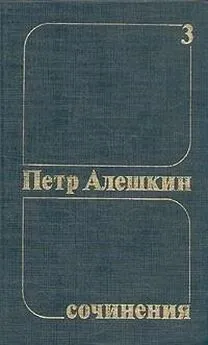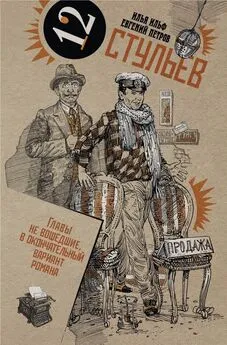Петр Павленко - Собрание сочинений. Том 6
- Название:Собрание сочинений. Том 6
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Гослитиздат
- Год:1955
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Петр Павленко - Собрание сочинений. Том 6 краткое содержание
В шестой том вошли наиболее значительные литературно-критические и публицистические статьи П. А. Павленко (1928–1951), воспоминания, заметки «Из записных книжек» (1931–1950), ряд неопубликованных рассказов и статей (1938–1951) и некоторые его письма.
Собранные воедино статьи и воспоминания, заметки из записных книжек и избранные письма дают представление о многосторонней деятельности Павленко — публициста и литературного критика — и вводят в его творческую лабораторию.
Собрание сочинений. Том 6 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— За землю Русскую!
Под этим знаменем сформировался великий русский народ, не раз в кровавых битвах отстаивавший свою самостоятельность.
Мы — в другой эпохе. Но и для нас — людей социализма, создавших строй, еще не существовавший в мире, — и для нас «Слово» остается высоким поэтическим памятником любви и верности родине.
Автор поэмы — воин, политик и поэт — образ живой и близкий нам. Это тот образ поэта-гражданина, который развивался дальше на всем пути русской поэзии. В авторе «Слова», безвестном ратнике XII столетия, нам дороги та цельность его натуры, та благородная идейно-творческая устремленность, которые — с иным социальным содержанием, на неизмеримо более высокой, коммунистической основе — в наше время становятся чертами характера миллионов.
1938
О Л. Н. Толстом
Не знаю, как для других, а для меня нет ничего более великого в старом русском искусстве, чем Толстой.
Он всеобъемлющ, в нем одном заключены все страсти, которые когда-либо волновали искусство, и выражена с титанической силой та особенная, русская по истокам, простота художественного письма, которая является лучшим выражением реализма.
Никто не писал так просто и вместе с тем так богато, сложно, умно, как он. А после него только Чехов и Горький.
От Льва Толстого пошла школа русского психологического романа, романа простой эпической формы. Сложный психолог, удивительный пейзажист, портретист стендалевской остроты, моралист и просветитель, Толстой опять-таки, как никто до него, проложил своим книгам широкий путь к миллионному читателю великим умением говорить просто о самых сложных вещах. Он был, по природе своего гения, писателем массовым, всенародным, и таким стремился стать в течение всей своей жизни, сложной, противоречивой, окутанной христианской мистикой, зашедшей тупик, казалось ему, непреодолимых социальных противоречий.
И все-таки, не глядя на ограничение этих рамок, вопреки всей системе капитализма, он сохранил гениальную цельность своей творческой натуры.
Писатель смелый и беспощадный прежде всего к себе, глубоко и честно любивший народ свой и научивший человечество просто и глубоко думать о жизни, — он останется навсегда в памяти человечества.
Нам, советским писателям, надо учиться и учиться у Толстого. Учиться работать, как он работал, учиться любить свое творчество, как важнейшее дело, как единственный смысл жизни, учиться ценить и чувствовать простоту и ясность великой русской речи, в простоте которой заложен глубокий эпос.
1940
Любовь народа
Львов был уже давно взят. По щербатой тарнопольской дороге, пропустившей три армии, два раза польскую и в третий — Красную, тянулись беженские обозы. Изредка, нарушая сонный быт шляха, проносился цыганский табор — крытые фургоны с окошечками и красными флагами над входными дверями — да пробегал грузовик с оторванными крыльями, везущий делегацию в ушанках, кепи, шляпах и котелках. Но дети все еще дежурили на дороге. Они все еще ждали. Их надежды были неиссякаемы.
Стоило появиться небольшой кавалерийской части, и, если это было вблизи деревни, ребята возникали, как из-под земли.
— Ворошилов! Ворошилов! — кричали они, захлебываясь восторженной верой, что сейчас из этих рядов отделится плотный всадник на гнедом коне.
Они не видели его ни разу в жизни. Его портреты не висели ни над их кроватями, ни над их партами.
Но они довольно ясно представляли себе Ворошилова.
И твердо верили, что увидят его.
Приблизилось 7 ноября — день первого воинского парада на освобожденных землях Западной Украины. На опустевшем шляху опять появились и танки, и орудия, и артиллерия, и пехота.
По облику день был не праздничный, пасмурный, неуютный. Но обочины шляха вблизи сел перед Львовом были людны. Теперь-то все хотели увидеть Ворошилова, о прибытии которого к 7 ноября в народе распространился упорный слух.
Толпы стояли по краям шоссе, разглядывали проходящие воинские части.
Легковые машины не привлекали к себе решительно никакого внимания. Поезда — тоже.
Но вот кавалерия!..
Ребята перестали шуметь. Взрослые вынимали изо ртов трубки.
Никому как-то не приходило в голову, что если Ворошилов действительно и приедет, то незачем ему ехать на коне во главе эскадрона или полка, нечего терять время на длинном шляху и что есть у него другие средства передвижения. Народ ждал Ворошилова таким, каким запомнил во времени.
Еще были живы люди, видевшие Первую Конную в боях под Львовом в 1920 году. Еще были живы люди, у которых останавливался Ворошилов и с которыми он говорил, беседовал. Девятнадцать лет шопотом, от сердца к сердцу, рассказывали они о встречах с ним, и тайный рассказ их, не смея прозвучать вслух, врезался в память очень многих. Теперь воображение пыталось склеить события тех лет с сегодняшними. Рассказ, прерванный на девятнадцать лет, должен был обрести свой финал, и Ворошилов, такой, каким помнили его по Первой Конной, обязательно должен был появиться перед народом. Вот заплясал чей-то рослый конь! Крепкая фигура всадника картинно нагнулась над седлом. Не он ли?
Не выхватит ли сейчас шашку из золотых сверкающих ножен, не крикнет ли на все поле: «За мной!»
— Ворошилов! Ворошилов! — кричат дети.
Но все сроки уже прошли, и шоссе опять надолго пустеет. Время начаться параду во Львове.
Теперь даже самые упорные и те оставляют надежды увидеть Ворошилова.
И нехотя расходятся по домам.
Почти двадцать лет видели они перед собой образ живой и знакомый, и не стареющий, не изменяющийся, и к нему, к нему тянулась их изголодавшаяся по подвигам душа.
Поля сражений Первой Конной были их полями, их усадьбами, их кладбищами или овинами.
Коня под Ворошиловым могло ранить у кума Данилы, и командовать он мог из хаты деда Павло, а ночевать у Тараса — и все это давно стало родовым, личным, торжественно неизменным, как песня, петая смолоду.
И вспомнилось мне, как лет шесть или семь назад я пел такую же песню о Ворошилове на другом краю родины — на Востоке.
Все летоисчисление крупных дел начиналось там, со времени, с той поры, «как у нас побывал Ворошилов», с 1932 года.
В краевых и областных центрах говорили: «Год Ворошилова».
В районах отмечали десятидневки, те, в течение которых Ворошилов бывал у них В колхозах же запомнили, конечно, «ворошиловские дни», то есть те, в которые он посетил колхоз.
В день, уже не помню какой, но именно ворошиловский, стоял я на сопке перед пограничной рекою.
Два года назад — в этот же точно день — сюда заезжал Ворошилов и велел сделать то-то и то-то, а потом с мой же сопки долго вслух обсуждал боевые возможности места. Все то-то и то-то были уже готовы, и теперь тут происходило оживленнейшее учение.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: