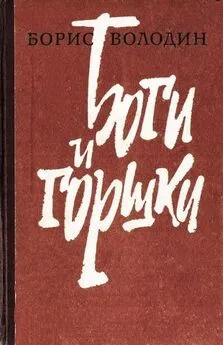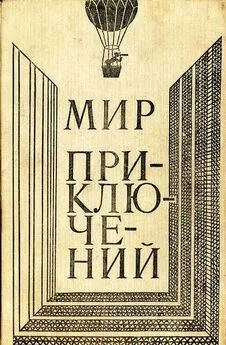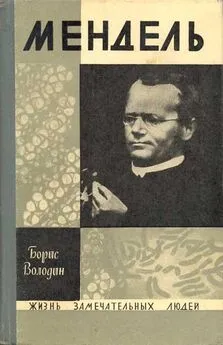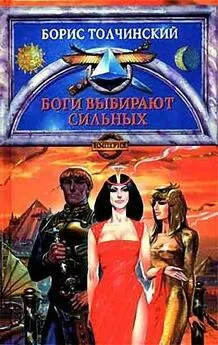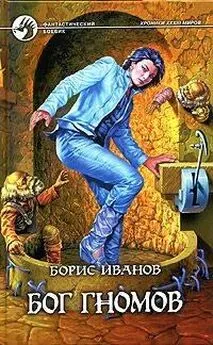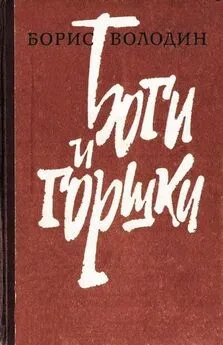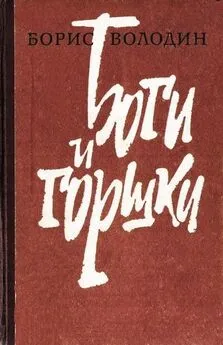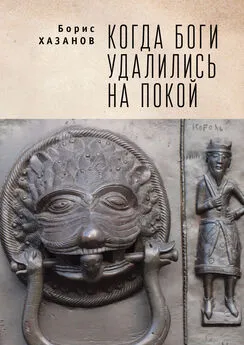Борис Володин - Боги и горшки
- Название:Боги и горшки
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советский писатель
- Год:1985
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Борис Володин - Боги и горшки краткое содержание
Борис Володин — прозаик, работающий в научно-художественной литературе. В эту книгу вошли его биографический роман «Мендель», повесть «Боги и горшки» — о И. П. Павлове. Кроме того, Б. Володин — сам врач по профессии — посвятил благородному труду медиков повести «Я встану справа» и «Возьми мои сутки, Савичев!»
Боги и горшки - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В «своих», в упрямых Ционовых почитателях, — Чирьев, Бакст, он, Афанасьев, Бакстов ученик Ительсон и два академических профессора — анатом Ландцерт и физиолог Устимович с новой кафедры, образованной на ветеринарном факультете академии. Они кипели, клеймили дутые величины, падкие до легкой популярности , вздыхали о стадности толпы , горевали, что истинный гений — не пророк, в своем отечестве; фразы эти, конечно, долетали до академика и не вызывали при этом никакой видимой его реакции.
Но разговоры разговорами, а были и шаги…
3
Устимович, например, всем говорил, что задумал статью с критикою работ академика. Правда, скорого ее появления на свет не ждал никто, и Филипп Васильевич тоже, поскольку свою докторскую диссертацию Устимович сделал всего через пятнадцать лет после университета — богатому помещику спешить некуда.
А Сергей Иванович Чирьев взял да и отказался исполнять при профессоре Овсянникове обязанности лекционного ассистента и перешел в ассистенты к Устимовичу. Филипп Васильевич пожал плечами, и опыты на лекциях для медиков демонстрировать стал, естественно, его верный лаборант.
Студенты Павлов с Афанасьевым тоже изобрели демарш — какой могли.
Когда Филипп Васильевич взял в руки их диссертации — кому же еще было в университете разбирать, какая из физиологических работ достойна награды, золотой, серебряной или никакой! — то, перелистав их для начала бегло, он увидел на последней странице сперва одной, а тотчас и другой выведенную крупными литерами «благодарность профессору И. Циону за советы, которыми он поддерживал нас при проведении наших исследований в лаборатории здешней Медико-хирургической академии ».
Все точки над всеми «и» в этой дипломатической ноте поставлены яснее ясного: ведь советы-то Илья Фадеевич давал как профессор университета, чего не указано, ибо оттуда, господин Овсянников, он при вашем участии две недели назад изгнан, а вот эта лаборатория — навек его лаборатория и наша alma mater, помните сие. Сочинения по традиции анонимны — взамен имен девизы, — но и секрет изначально был полишинелев, и этим пассажем забрала демонстративно подняты — по-евангельски, по Матфею: и будем ненавидимы за имя Его — верши, судья, свой суд неправый!.. Можно представить себе, с какой неохотой Филипп Васильевич принялся за чтение.
Однако известно, что на второй странице он насторожился. Дальше — изумился. Увлекся. Восхитился. Взялся за перо и написал отзыв, какого демонстранты не ждали и не хотели от него.
Он педантично объяснил каждое преимущество их работы, для начала — «во первых строках своего письма» — сразу поставив их на одну доску с Клодом Бернаром и всеми другими известнейшими исследователями. Вот корифеям не под силу было с помощью постоянной фистулы поджелудочной железы получить надежные факты, по которым можно было бы судить о ходе событий в неповрежденном органе. А наши авторы сумели доказать, что данный метод при надлежащем исполнении приносит прекрасные результаты!..
Было чему порадоваться, — господи, да как хорошо эти задиры все продумали, все взвесили в жажде увидеть каждое явление в полной чистоте!.. И они же сумели решить ту Гейденгайнову задачку, сумели именно потому, что сперва разобрались, отчего она не далась коллеге Ландау. Временная фистула, травма самой операции — вот корень неудачи, ибо любое сильное чувствительное раздражение, по какому бы нерву ни распространялось, неизменно тормозит — это ими доказано! — поджелудочную железу, «оглушает» ее, лишает способности отвечать на сигналы, призывающие, чтоб она заработала. Все-то ждали, что будет ее стимулировать, как слюнную!
А при постоянной людвиговской фистуле, умело сделанной, уже дня через два-три, когда животное оправилось от операции, железа послушно включается, как только собаке дали пищу. И количество каплющего из фистулы сока — они его измеряли каждые пять минут — возрастает, затем снижается, вновь возрастает и вновь убавляется с одною строгой закономерностью. И надо думать, что это — также ответы на некие сигналы секреторных нервов.
…Да, да, профессор Гейденгайн доказал, что постоянная фистула, постоянное «окошечко в мир», сама по себе — тоже повреждающий фактор. Но дегенерация клеток железы начинается только к девятому дню — и вот оно, время для наблюдений за нормальной деятельностью органа!
Все у них получалось!
Накормят собаку — и железа начинает работать. Введут атропин — секреция тормозится. Введут физостигмин — и железа снова льет сок. А это же азбука: атропин отключает вагус, физостигмин восстанавливает передачу импульсов, — значит, именно блуждающий нерв, «бродячий», как называл его Сеченов, отдает железе волоконца, заведующие секрецией!
Вот он, ответ, — ясный, послушный, повторяемый. А забияки не могут остановиться: еще опыт, еще и еще — та же собака, другая, пятая, атропин, физостигмин, раздражение кожи током, раздражение вагуса, седалищного нерва и нерва голени. Миска с мясом собаке под морду, трубка манометра в артерию — то в сонную, то в собственную артерию железы: совпадает ли секреция с расширением сосудов, с гиперемией, с полнокровием органа?.. Наслаждаются собственной умелостью, словно акробаты у Чинизелли: может на «bis» и такой кульбит, и этакий, — да как иначе, если дело дается. Если чувствуешь, что природа трафаретна. Что ощупываешь истинные закономерности. Что, может, еще какой-то поворот, и уже просто рукой потрогаются паутинки проводочков — и тех, что запускают железу в работу, и тех, что приказывают остановиться по принципу нервного антагонизма. Да иного и быть не должно: ведь мы живем в семидесятые годы могучего XIX века, и лучшие умы физиологии предвидят, что механизм обязан быть таков!
…Но вот в этих ли точно выражениях воплощались мысли Филиппа Васильевича, возникшие от чтения диссертаций Павлова и Афанасьева, или в других, про это биться об заклад не станем. Быть может, у Овсянникова, соответственно его сану, в голове звучали слова посуше, почопорней. А вот что чувства и мысли были в этот час именно такими, академик сам подтвердил нижеследующими фразами: «В представленных исследованиях… мы находим веские доказательства и опыты, которые нам говорят…» Или: «Оба автора нашли, что…» А еще: «Исследование нервных влияний на поджелудочную железу принадлежит к самым трудным…» И, наконец: «Ввиду этих обстоятельств и интересных новых результатов… я бы полагал вполне справедливым удостоить их золотой медалью».
Чем и обрек своего любимца утешаться всего серебряной, на каковую его тогда же и представил.
Думаете, Павлов с Афанасьевым растаяли от присужденной награды? И от этого отзыва, меж строк которого и признание читается: «А я-то вас, коллеги мои молодые, прежде не ценил, как вы того заслуживаете», и виднеется протянутая учителева рука — он же все-таки их былой учитель, хоть и не главный!..
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: