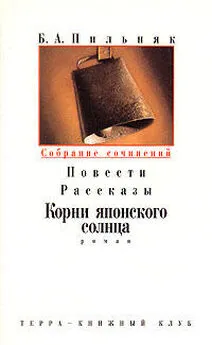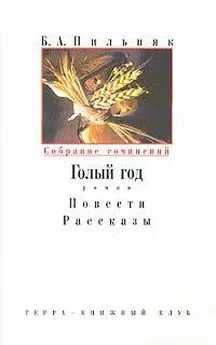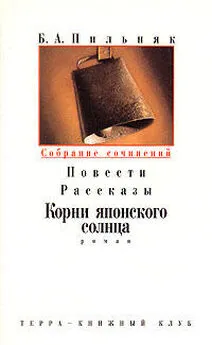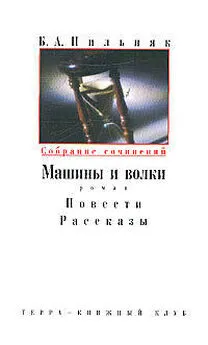Борис Пильняк - Том 6. Созревание плодов. Соляной амбар
- Название:Том 6. Созревание плодов. Соляной амбар
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Терра - Книжный клуб
- Год:2003
- Город:Москва
- ISBN:5-275-00727-2, 5-275-01045-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Борис Пильняк - Том 6. Созревание плодов. Соляной амбар краткое содержание
Борис Андреевич Пильняк (1894–1938) – известный русский писатель 20–30 годов XX века, родоначальник одного из авангардных направлений в литературе. В годы репрессий был расстрелян. Предлагаемое Собрание сочинений писателя является первым, после десятилетий запрета, многотомным изданием его наследия, в которое вошли, в основном, все восстановленные от купюр и искажений произведения автора.
В шестой том Собрания сочинений вошли романы «Созревание плодов», «Соляной амбар».
http://ruslit.traumlibrary.net
Том 6. Созревание плодов. Соляной амбар - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
…если бы машина-шахматы»…
В Палехе живет изумленный народ, который на лаке, на квадратных сантиметрах лака пишет древними красками, и обязательно пишет золотом и полирует коровьим, а то лучше собачьим или волчьим, зубом, причем лак и золото оказались элементами «стиля» Палеха.
Тридцать лет тому назад около Палеха поселился художник, носящий звание академика императорской русской живописи, соратник Виктора Васнецова, Николай Николаевич Харламов. В пяти километрах от Палеха он построил себе мастерскую. Окончив Санкт-Петербургскую академию живописи, художник, сын священника, определил свою судьбу, как Васнецов, его товарищ, – храмовою фресковой живописью. Он расписывал церкви. По его эскизам делалась мозаика «Воскресенья на крови», церкви, построенной в Петербурге на месте казни Александра Второго. Он расписывал Варшавский русский собор, за что получил звание академика живописи. Окончив академию, он умел писать, и писал, и пишет до сих пор портреты, – сейчас портреты руководителей Ивановской области – Аггеева, Носова. Человек с академическим живописным образованием, с большими поездками по миру, с хорошим знанием истории живописи в мире и у нас, интеллигент, – он тридцать лет жил около Палеха, он писал церковные фрески, расписывал церкви, – то есть делал то же, что делали палешане. Варшавский собор разрушен поляками, этот символ русского императорского порабощения Польши, по совершенно закономерным причинам. Церковь «Воскресенья на крови» у теперешних русских вызывает естественное презрение. Харламову под семьдесят, – лучшие годы этого художника больших живописных знаний выброшены на свалку эпох. Он вернулся к тем самым портретам, которым его обучали в академии живописи пятьдесят лет тому назад, к «академическим» портретам также полунужной надобности и полунужного мастерства, хотя они на самом деле академически-грамотны. Искусство революции забыло Харламова, в пяти километрах от Палеха, человека, вернувшегося к тому, с чего он начал. Он очень одинок, Харламов. Его дом, ничем внутри не изменившийся за последние тридцать лет, глохнет в парке. В громадной его мастерской стоят у стен громадные заготовки церковных фресок, Иисус, Бог-отец, Богоматерь. Харламов знает, – тридцать лет тому назад он поселился около Палеха, чтобы учиться у Палеха, он, академик. Он учился у Палеха. Он знает, что все эти красноармейцы, рабочие, пастухи, колхозники, додоны, Пушкин на миниатюрах палешан, появившиеся тогда, когда палешане вдребезги разбили икону и иконописные каноны, все они анатомически неграмотнейши, когда всадник вдруг вдвое выше лошади, а двери в палатах вдвое ниже коня, – и он, академик, знает, что он не смог научиться у палешан. Он не знает, как это так получилось, что палешане расцвели золотом искусства, – ведь с полною грамотностью писал он иконы, те самые, которые кинуты в презрение. Харламов на самом деле повторил сказку о рыбаке и рыбке, написанную Зубковым, оказавшись у разбитого корыта молодости, когда от тех же самых икон, к которым с грамотностью подходил Харламов, безграмотные палешане прошли в заслуженные Советского Союза. Баканов же, Голиков, Вакуров, Котухин и Маркичев, заслуженные, вошедшие в советское искусство из развалин иконописания и поразившие в первую очередь умением, на самом деле малограмотны. Эти заслуженные до революции были «личниками» и «доличниками», – то есть одни из них умели писать «лики» и не умели писать все прочее, а другие умели писать все прочее и не умели писать «ликов».
Несколько лет тому назад, когда палехская артель имела уже и славу, и литературу о себе, в Палех приехала дочь художника и художественного критика Лидия Александровна Мантель. Ей было двадцать четыре года, она только что окончила живописную школу Рерберга в Москве. Она попросилась в ученицы в артель. Ее приняли и определили учиться, как некогда учивались сами художники и как учатся сейчас в техникуме их дети, – определили учиться «к мастеру» – к лучшему – Ивану Михайловичу Баканову. У нее был договор с артелью, – она должна была два года учиться и не меньше двух лет затем отработать в артели. Она показала отличные способности, – не через два, а через год она была принята в члены товарищества равноправным мастером. Она приехала, чтобы подобрать Палех, как Харламов, она была дочь знатока искусств.
Она не смогла стать товарищем в артели, не сумев сладиться с товарищественным бытом и традициями. Она должна была уйти из артели. Но она – не ушла из Палеха. В Палехе жил и живет богатырь и столяр Константин Николаевич Солонин, шестидесяти-с-лишним-летний гигант и философ, полуграмотный, книгочей, всегда босой, с расстегнутым воротом на волосатой груди, с непокрытою гривой седых волос, не признающий способа умываться из умывальника, и зимой и летом моющийся на речке Палешке, зимой – в проруби, обязательно непокрытый и босой. Он был женат. Лидия Александровна Мантель полюбила его, он полюбил ее. Они сошлись. Он ушел от старой своей жены. В солнечное утро однажды палешане видели, как босой Солонин, а сзади него, перекинув башмаки на веревочке через плечо, также босая Мантель – пошли пешком в Москву. Около года их не было в Палехе. Затем они вернулись в Палех и наняли пустующую избу. Солонин судился со старой своей женою, ему присудили корову. Лидия Александровна родила девочку. И в Палехе сейчас она растит ребенка и пасет корову. Николай Николаевич Харламов полагает, что столяр Солонин загипнотизировал Лидию Александровну, дочь старого его друга и коллеги художника Александра Мантель. Лидия Александровна любит своего мужа восторженно, упоенно. Ей думается, что она счастлива. Но она была бы окончательно счастливой, если бы она вернулась в артель, куда ее не принимают вновь и, должно быть, не примут, ибо у артели есть свои традиции и своя гордость, однажды нарушенные Лидией Александровной. Лидия Александровна верит, что она будет писать, когда дочка сойдет с ее рук, – и будет писать так, как пишут палешане. Ей кажется сейчас, что палехскому искусству ее научил в большей мере, чем Баканов, ее муж столяр и палешанин Солонин, сделав ее палешанкой. Она не подобрала Палеха, Палех подобрал ее. Красивая женщина, молодая, интеллигентка, Лидия Александровна сейчас ничем не отличима от палешанок, ни одеждою, ни даже манерою говорить, так же она держит на руках ребенка и так же пасет корову.
Палехские мастера очень любят писателя Николая Николаевича Зарудина. Зарудин влюблен в Палех. Зарудин – член бригады Союза писателей, обслуживающей Палех. Зарудин всегдашний гость палехских юбилеев и торжеств. Был праздник одного из палехских урожаев – вручение циковских грамот заслуженным Баканову и Голикову. И была всеартельная чарочка великого пафоса, великих торжеств и полуночного часа. За мастерскими лежали морозы, в мастерской в тепле расплавлялись сердца, «творились», как золото. Художники собрались с женами, каждая жена пришла с брошкою на шее. Говорились речи, хмельные, как серебряная чара. И упоенно говорил Зарудин, влюбленный в Палех. Он говорил прекрасно. Его слова и мозг, обгоняя друг друга, пенились солнцем и были на высоте тех песен, которые пелись над пиром и чарой. На самом деле Зарудин был прекрасен в тот вечер, и прекрасны были его речи, похожие на песнь. И вышла на круг палешанка, и она сказала Зарудину, восхищенно и громко, так, чтобы слышали все и одобрили, о том, что шесть лет она уже вдова и чтит память мужа-художника, прекрасного друга ее юности, – о том, что как песнь и как память о муже, говорил Николай Николаевич Зарудин, разбередив ее сердце, – о том, что зовет она его Никалаюшку, от переполненного сердца к себе в избу разделить с ней пуховые ее постель и сон, никем не делимые со смерти мужа. Она поклонилась Зарудину поясным поклоном. Николай Николаевич Зарудин покраснел как маков цвет, слова отпали от него. Он заговорил поучительно-несуразное, совершенно интеллигентное. Она ожидала. Она поклонилась еще раз Зарудину, и она сказала в поклоне, достойно, целомудренно и просто:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: