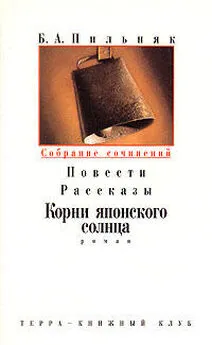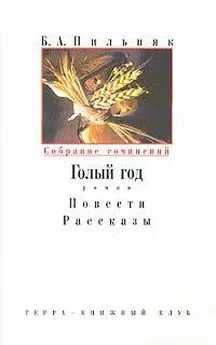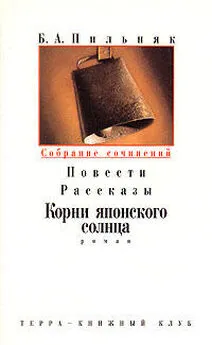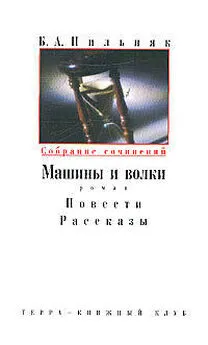Борис Пильняк - Том 6. Созревание плодов. Соляной амбар
- Название:Том 6. Созревание плодов. Соляной амбар
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Терра - Книжный клуб
- Год:2003
- Город:Москва
- ISBN:5-275-00727-2, 5-275-01045-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Борис Пильняк - Том 6. Созревание плодов. Соляной амбар краткое содержание
Борис Андреевич Пильняк (1894–1938) – известный русский писатель 20–30 годов XX века, родоначальник одного из авангардных направлений в литературе. В годы репрессий был расстрелян. Предлагаемое Собрание сочинений писателя является первым, после десятилетий запрета, многотомным изданием его наследия, в которое вошли, в основном, все восстановленные от купюр и искажений произведения автора.
В шестой том Собрания сочинений вошли романы «Созревание плодов», «Соляной амбар».
http://ruslit.traumlibrary.net
Том 6. Созревание плодов. Соляной амбар - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
– Андрей, пойди сюда!
Сын пошел к отцу с двойными чувствами, – в гордости всех тех ребячьих глаз, которые остановились на его плечах, которые он должен в чести принести к отцу, и – в страхе, что вдруг, как обещал, спокойно, отцовским абсолютом, папа скажет, – «домой!» –
Отец ждал сына молча. Сын подошел. И молча вдруг отец – впервые в жизни – ударил сына по затылку так, что шапка съехала на нос. Отец поправил шапку на голове у сына, взял левою рукою сына за здоровое ухо и, молча, ничего не говоря, направился с сыном к дому.
Сквозь пропасти позора Андрей слышал, как крикнул староста Сидор Наумович:
– Сенька, подь сюды!..
В тот день японцы были выпороты всем родительским селом.
Доктор Иван Иванович вел сына за ухо, едва касаясь уха, со всяческою осторожностью, – пред собственной совестью доктор мог сказать, что больно он не сделал сыну, что подзатыльник дал он исключительно для поощрения крестьян, из своего демократизма, сознательно коснувшись только шапки сына, но не головы, чтоб шапка съехала на нос «герою», – и также перед совестью своей сын знал: весь в синяках пришел домой он прошлым воскресеньем, все тело ныло в боли, но он, Андрей, был счастлив, – отец тащил домой за ухо, и боли не было, – и как же больно, смертно больно было всему существу.
В четыре часа дня в тот день в помещении земской управы по инициативе князя Верейского и Бабенина собиралось инициативное собрание для организации Камынского общества Красного креста и обсуждалось предложение Николая Евграфовича о сборе денег среди населения для закупки двуколок на предмет перевозки раненых.
Вечером на квартире доктора Криворотова собирались интеллигенты и провожали агронома Дмитрия Климентьевича Лопатина, мобилизованного в маньчжурскую армию. Дмитрий Климентьевич пришел совершенно незнакомым и нереальным – в офицерской форме. Сняв в прихожей шинель и папаху, рядом с шинелью на вешалку повесил Дмитрий Климентьевич кобуру с револьвером и шашку. Затемно уже к Андрею пришли Климентий Обухов и Ванятка Нефедов, – Климентий единственный не поротый в Чертанове. Друзья утешались тем, что порото было все Чертаново. Втроем они, когда гости уселись в столовой, всласть в прихожей налюбовались на настоящие саблю и револьвер, – так всласть, что у Андрея даже отлегло от сердца.
В столовой говорились речи. Грустную речь произнес Никита Сергеевич – о том, что японцы победят Россию, должны победить. Андрей, Ванятка и Климентий сидели на корточках за дверью, – и всем троим им стало приятно, что японцы победят, – «так городским и надо!..» – Заговорил речь Иван Иванович, говорил долго и невразумительно.
– Итак, – закончил он свою речь. – Правде надо глядеть в глаза. Я убежден, что Дмитрий Климентьевич вернется из этой авантюры цел и невредим. И – однако, что бы ни было, – пусть кости погибших на маньчжурских полях будут залогом светлого будущего нашей земли, обильной, богатой и – и неустроенной!..
Маньчжурские поля, конечно, казались столь же необыкновенными, как слова Ялу, Нагасаки, Ито, Тоги, – и над белыми русскими костями летали там голошеие майнридовские кондоры…
Иван Иванович после своей речи выходил на парадное и на кухню, слушал мороз, поправил занавески в гостиной и в столовой, – и в столовой запели, –
«Вихри враждебные веют над нами»…
Нежданно-негаданно у крыльца зазвенели бубенцы, проскрипели полозья, – на тройке прикатил помещик Вахрушев, также мобилизованный в армию, также в офицерской форме. Он загромыхал на весь дом кавалерийской саблей и зазвенел шпорами. Он попросил разрешения не раздеваться. Он на лету поцеловал у хозяйки руку. Он заехал проститься, он хотел условиться с Дмитрием Климентьевичем Лопатиным о дне отъезда «на театр военных действий», чтобы не скучать три недели в поезде. В шинели, бряцая шпорами, он вомчался в столовую, ему налили стакан вина. Он оглядел всех мутным глазом, крикнул не то предостерегающе-злобно, не то злобно-иронически:
– За веру, царя и отечество!
Выпил залпом, разбил стакан о пол и исчез, прямо с крыльца прыгнув в сани, крикнув в полете кучеру:
– П-шел, желтолицый! – к Верейскому!
Мимо Камынска на Дальний Восток шли длинные поездные составы, состоящие из одного-двух желто-синих вагонов первого и второго классов, из красных товарных вагонов с белыми надписями «сорок человек – восемь лошадей» – и из платформ с пушками, покрытыми чехлами. На станции солдаты бегали в буфет за кипятком и за водкой, товарные вагоны ревели песнями, главным образом, тем, что –
«Последний нонешний денечек
Гуляю с вами я, друзья…»
В классных вагонах за громадными зеркальными стеклами окон на столиках стояли бутылки. Около бутылок в расстегнутых мундирах офицеры играли в карты. Эти вагоны не пели.
Поезда шли по рельсам Витте. И по этим же рельсам с Дальнего Востока пошли невероятные слухи, – об офицерской игре в кукушку, например, когда офицеры в дальневосточных ночах и в желтолицей скуке, напиваясь жженки и грога – офицерских напитков, тушили в комнате свет, завязывали глаза всем, кроме одного, – этот один бегал по комнате, кричал «ку-ку», а все остальные стреляли из револьверов по направлению крика «ку-ку». И по этим же рельсам стали приходить слухи о совершенно необыкновенных и особенных кражах, продажах, хищениях на Дальнем Востоке– о «гомерических». Гомер же был уже известен Андрею Криворотову.
Февральские метели сменились над Камынском мартовскими ручьями, давно уже прилетели грачи. В мартовскую ночь тогда на многих заборах в Камынске, даже на воротах казарм караульной роты, где помещался призывной пункт, даже на парадных Верейского и Федотова, – расклеенными оказались стихи, размноженные явно на «Рэнэо» земской управы, –
Вынул ты жребий мне дальний.
Смерив грудь, крикнул – гож!..
Что ж ты стоишь так печально?
Ведь в царскую службу пойдешь!
Правда, сынки богатея
Подмажут кой-где кой-кого
И дома остаться сумеют,
Ты же пойдешь. Ничего!
Верно, рекой разольются
Мать, твой отец иль жена, –
Ну, да небось обойдутся, –
Царская служба нужна!
Ведь сила-то царская в войске,
Нужно, чтоб пулей, штыком
Ты расправлялся геройски
С братом своим мужиком.
Если, забитый, рабочий
Вздумает вольно вздохнуть,
Гибнуть за грош не захочет, –
Целься верней ему в грудь.
Ну, если вспомнишь, бывает,
Как это братья твои
Тяжким трудом добывают
Хлеб для голодной семьи,
Как их теснят, угнетают,
Как богатеи из них
Слезы и пот выжимают, –
Вспомнишь далеких родных,
Вспомнишь, быть может, – «Придется
Несть самому этот гнет!» –
Сердце до боли сожмется,
Стыд щеки кровью зальет.
Совесть прогонит отвагу,
Дрогнет на братьев рука…
Помни устав и присягу, –
Бей бунтаря-мужика!..
Правда, к присяге-то этой
Силой тебя подвели,
Против Христова закона
Клятву попы завели…
Поп не видал, как с дворянством
Царь кровь народную пил, –
Жертв крепостного тиранства
Разве не поп хоронил?
Разве не поп равнодушно
Связанных в церкви венчал,
На смерть пороли в конюшнях,
Поп-то чего же молчал?
Он не видал, как меняли
На кобелей мужиков…
. . . . . . . . . .
Интервал:
Закладка: