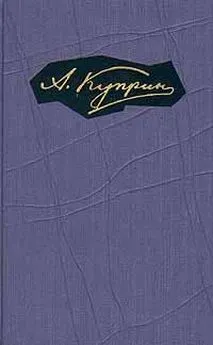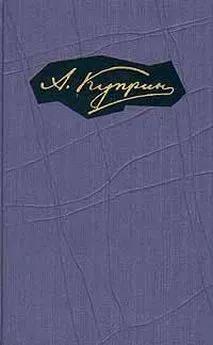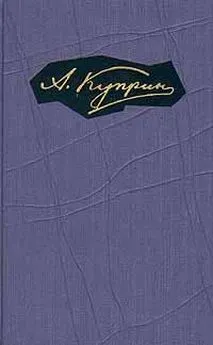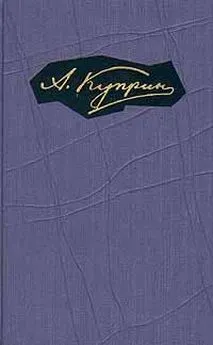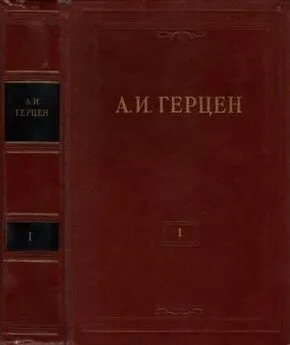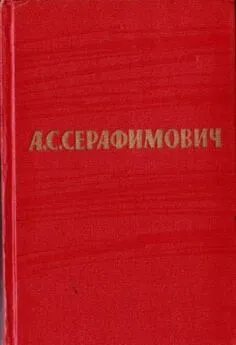Александр Серафимович - Том 2. Произведения 1902–1906
- Название:Том 2. Произведения 1902–1906
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Гослитиздат
- Год:1959
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Серафимович - Том 2. Произведения 1902–1906 краткое содержание
Во второй том вошли произведения А. С. Серафимовича 1902–1906 годов. До середины 1902 года писатель жил в провинции и печатался по преимуществу в провинциальных газетах. С переездом в Москву в августе 1902 года расширяются литературные связи Серафимовича, он входит в круг московских литераторов, становится активным участником литературного объединения «Среда». Напряженная работа в «Курьере», для которого Серафимовичу приходилось писать заметки, фельетоны почти каждый день, продолжалась до июля 1903 года. Главным местом публикации произведений Серафимовича с 1903 года становится издательство товарищества «Знание», во главе которого к этому времени стоял А. М. Горький.
http://ruslit.traumlibrary.net
Том 2. Произведения 1902–1906 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
– Писем нет?
И сын и отец продолжали спорить, даже не взглянув на девушку, и оба чувствовали тот затаенный смысл, который Екатерина Ивановна вкладывала в свой вопрос. Чувствовала его и стоявшая девушка и, не умея на него ответить, робко и просительно, точно слабо защищаясь протянутыми руками, проговорила:
– Почтальон еще не приходил.
Екатерина Ивановна заставила ее еще молча простоять некоторое время у двери.
– Пожалуйста, не употребляй простых определений вместо доказательств… имморально, противообщественно, индифферентизм… А главное…
Егор Матвеевич сурово помолчал и продолжал холодно:
– Главное, сто раз примерь, чтобы раз отрезать. Холодно и спокойно взвесь, чтоб потом, обернувшись, с поздним раскаянием не сказать: «Эх, была жизнь, была молодость, все упустил…» Раз решил, выбрал дорогу, ступай и пускай все силы, весь ум… Все можно взвесить, рассчитать, все можно побороть. Жизнь – только борьба… Но одно только, чтобы не было позднего раскаяния.
И голос его звучал глухо.
Екатерина Ивановна кивнула головой, но только белая фигурка скрылась за колыхнувшейся портьерой, как снова нетерпеливо, уже чувствуя, что не сдержит накопившегося раздражения и что в груди подступает что-то захватывающее и острое, нажала кнопку.
Тоненькая фигурка снова показалась в дверях.
– Почему у вас самовар так неряшливо подается? Жалованье ведь не мы, а вы получаете. Надо же понимать свои прямые обязанности…
Девушка, все так же защищаясь робостью и мольбой, густо покраснела:
– Я… я… барыня… меня посылали… Марина подавала…
– Ступайте.
Собственно, Екатерине Ивановне давно надо бы примириться с фактом. Когда она узнала все, страшно возмутилась и хотела прогнать горничную. Егор Матвеевич упорно и настойчиво убеждал, что из двух зол нужно выбирать меньшее, что если она не хочет, чтобы сын таскался по вертепам, сводил знакомства с грязными продажными женщинами, постоянно рисковал заразиться ужасной болезнью, от которой стреляются, – пусть мирится с фактом.
– Но ведь это же мерзко… это подло и по отношению к девчонке этой, – говорила, волнуясь, Екатерина Ивановна.
– А то, что она смотрит нам в рот, когда мы вкусно едим, и потом доедает объедки наши, это не подло? То, что валяется в каморке, когда мы занимаем апартаменты, работает с утра до ночи за гроши, когда мы получаем тысячи, ничего не делая, то, что, в сущности, она – рабыня наша, это – не подло и не мерзко по отношению к ней? Какая разница? Не надо лицемерия, надо больше последовательности… Да и того, что сделано, не воротишь, – добавил он сурово.
– Наконец… последствия же могут быть.
– Всегда можно устроить, обеспечить, дать ей возможность завести мастерскую маленькую. Всегда найдутся женихи, приданое маленькое дать… Не здесь, так в другом месте то же самое было бы, только там бы ее выбросили на улицу.
Екатерина Ивановна не возобновляла больше об этом разговора, но каждый раз, как горничная попадалась ей на глаза, у нее против воли подымалось все возмущенное чувство порядочной женщины.
Всю свою жизнь Егор Матвеевич построил в высшей степени умно, толково, рационально. Все было пригнано и приходилось одно к одному, как пригнаны новые части только что выпущенной заводом сложной машины. Люди, семья, обстановка работы, удовольствия, запросы ума – все было на своем месте, все было в меру, целесообразно, ничего лишнего, ничего сентиментального, ничего такого, что не требовалось фактом.
И эта печать целесообразности клала на все свой отпечаток строгости. Такой же отпечаток делового пуризма лежал на его речах, никогда не прибегал он к дешевому остроумию, не играл дешевыми чувствами, не искажал, не подтасовывал фактов. Ровно, спокойно, холодно, шаг за шагом раскрывал дело с какой-то другой стороны, простой и ясной, с которой прежде всего нужно было посмотреть и с которой никто не догадывался посмотреть.
Егор Матвеевич редко выступал на суде. Он выступал только, если дело обещало крупный гонорар или honoris causae [1]. Во время какого-нибудь особенно шумного крестьянского или рабочего процесса всегда видели его крупную фигуру, красивую львиную голову за пюпитром.
И каждый раз, когда Егор Матвеевич подымался со своего места, в большом переполненном зале наступало внимательное молчание.
В далекое студенчество в длинном гимнастическом зале, заставленном трапециями, лестницами, параллелями, барьерами, он бросал свое сильное, гибкое, молодое тело, чувствуя, как играют упругие, сильные, просящие работы мышцы. И ощущение легкого, естественного, почти радостного расхода физических сил охватывало его.
И теперь он испытывал это здоровое, бодрое ощущение расхода в полной мере еще сохранившегося запаса умственных сил и этого властвования над толпой.
О мужиках, сидевших позади за решеткой, изредка вздыхавших, дурно пахнувших и равнодушно слушавших, ничего не понимая в его речи, он совсем не думал, как будто они были далеко, затерянные в никем не знаемой деревне, как и миллионы таких же мужиков. Никогда Егор Матвеевич не мог запомнить их лиц, выражений, они проходили мимо серой, сливающейся вереницей, как один из элементов той обстановки, среди которой он произносил свои речи, и тотчас же тонули в памяти.
Раз только лицо клиента неизгладимо резко запечатлелось в памяти.
Егор Матвеевич говорил одну из своих могучих речей. За решеткой сидели серые, понурые мужики, сделавшие какой-то нелепый подлог. Молчание в зале, как повышающийся звук натягиваемой струны, становилось все напряженнее. Егор Матвеевич поднял руку ко лбу и, смолкнув на полуслове, с изумлением остановил глаза на мужичонке с птичьим пепельно-серым от восьмимесячного сидения в тюрьме лицом, в рваном, с вылезшею шерстью, полушубке и бесконечно усталыми, равнодушными глазами.
Черная траурная кайма поплыла, заслоняя смешавшиеся ряды, помутневшее золото мундирного шитья, и только птичье, с застывшим выражением равнодушия, лицо несколько секунд упорно держалось в голове.
Знакомая смертельная тоска разлилась по ослабевшему телу, и кто-то отчетливо, как в ту ночь, проговорил: «упраздняется с… разделением». Егора Матвеевича подхватили, вынесли, заседание прервали.
– Очумел, стало.
– Очумеешь, ишь сколько мотал, – делились впечатлениями мужички, которые воспользовались сумятицей, все, как по команде, ущемив нос пальцами, высморкались и потом опять застыли в равнодушных позах, словно на скучной переправе ожидая череду.
Когда консилиум разошелся, Егор Матвеевич молча стал ходить по глотавшему шаги ковру.
Жизнь, разумная, отлично налаженная, прекрасная жизнь надломилась. Точно лопнул невидимый скрытый привод, и все расстроилось, смешалось.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: