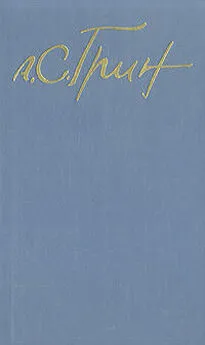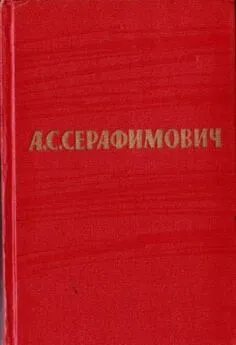Александр Серафимович - Том 3. Рассказы 1906–1910
- Название:Том 3. Рассказы 1906–1910
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Гослитиздат
- Год:1959
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Серафимович - Том 3. Рассказы 1906–1910 краткое содержание
В третий том вошли произведения Серафимовича 1906–1910 гг. Это были годы, трудные для русской литературы. Революция шла на убыль. Царское правительство жестоко расправлялось с рабочими и крестьянами – участниками революционных событий. Серафимович не был в революции случайным спутником, ни тем более равнодушным наблюдателем. Революция пришла к нему, выстраданная всей его трудной жизнью, в грядущую победу революции продолжал он верить несмотря ни на что. Герои рассказов Серафимовича – рабочие, крестьяне, интеллигенты – несут частицы этой веры.
http://ruslit.traumlibrary.net
Том 3. Рассказы 1906–1910 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
– Я, братцы, десять лет в Сибири провел… в лесу среди зверей, без человечьего слова, а у вас… а у вас тут Сибирь была, всегда была, есть и будет, пока вы не поймете, не подымете…
И разом над толпой поднялся лес рук, и, как буря, пронеслось над ней:
– С голоду дохнем, мы, дети наши… и нету этому конца и краю нету!..
И, подхваченный этими голосами, Варуков крикнул, точно помолодевший, точно скинувший с себя десяток лет:
– Так освободитесь и вы от своей Сибири. Скиньте с себя цепи рабства и угнетения, что въелись вам до самых костей. Скиньте с себя помещиков, что насосались вашего пота. Скиньте капиталистов, кулаков, мироедов и тогда дневной свет увидите.
И опять поднялся над толпой лес рук, и до самых последних рядов пронеслось:
– Жисть свою положим!.. Кровь свою отдадим!..
И пересиливая их, крикнул Варуков:
– Теперь будете свободны!..
Настоящая жизнь *
– Что-с?..
Он приподнялся с улыбкой уважения, предупредительности, готовый слушать, готовый лететь, все исполнить. Крохотные губки, розовые, полненькие, как будто припухлые, торопливо мелькали, говорили что-то, что было для него вовсе не важно; влажно поблескивали мелкие, ровные, шаловливые зубки, а за спиной у него выстукивали аппараты, и перед глазами направо, налево тянулась металлическая сетка с окошечками.
В полутемном, пропитанном табаком, дыханием, испарениями казенном воздухе еще звучало «что-с?» и все держалась улыбка уважения, готовности, и хотелось, чтоб это «что-с?» звучало долго, бесконечно и чтоб нескончаемо лежала на лице, на губах, светилась в глазах эта улыбка.
– Будьте добры… могу ли я?.. Если я пошлю телеграмму…
Он, все так же приподнявшись, все так же готовый лететь, слушал не слова и фразы, а музыку голоса, а кто-то другой его губами говорил совсем ненужное ему деловитым тоном:
– Видите ли, можно-с… Но вам придется оттуда эстафетой…
Когда она ушла, Ментиков с минуту сидел перед аппаратом, уставившись в одну точку и внутренно прислушиваясь к тому «что-с», которое он ей сказал, которое заключало в себе какой-то особенный, значительный смысл и с которым невольно связывалось представление о ней.
– Так-та-та-та… та-та… так-та-та… высылайте… партию… та-та-та… юфтового товара… та-та-та… та-та…
Рука быстро, неуловимо выбивала ключом торопливую дробь о юфтовом товаре, о смерти отца, поздравление с ангелом, просьбу выслать деньги, извещение о выезде новобрачных; шурша, выбиралась, белея и ложась кольцами, лента, и отовсюду неслись такие же короткие, приостанавливающиеся выстукивания, точно в тяжелом казенном воздухе носились звуковые точки, черточки, знаки. Несколько человек в мундирах с желтыми кантами и с желтыми лицами, согнувшись, выстукивали на аппаратах.
«Кто бы она была?..»
– Та-та-та… так… та-та…
«Гимназистка?.. Так не в форме…»
– Я вас попрошу не хватать с моего стола гуммиарабик.
– Да не ваш ведь… казенный… что распоряжаетесь…
– Извините… для меня приготовлен, и вы не хватайте… это бессовестно.
К окошечкам подходят старики, Старухи, мальчики, молодые женщины, молодцы из магазинов, подают синие бланки и деньги, получают сдачи и квитанции и уходят. А металлическая сетка равнодушно отделяет их от согнувшихся за аппаратами людей, придавая вид особого значения и важности этому отделенному месту.
«Городишь… ничего не понимаю… на каждом шагу: что-с… что-с… – передай сызнова», – читает на бесконечно выбирающейся, шуршащей ленте Ментиков запрос товарища с соседней станции, улыбается, вспоминает милые светившиеся, как две свечки, глазки, слегка потягивается, запрокинув голову и вытянув руки, и потом быстро, сосредоточенно наклонившись над аппаратом, снова передает требование на партию голландского еыра, и в воздухе все так же неутомимо, без перерыва, точно горох из прорвавшегося мешка, сыплется:
– Та-та-та… так… та-та… та-та-та…
А к металлической сетке подходят подаватели и уходят, и на их место новые, и так без перерыва, и только молодые девушки веселыми пятнами выделяются из этой нескончаемо тянущейся серой вереницы, выделяются миловидностью, грациозностью и беспричинной радостью жизни, и под темными закоптелыми казенными сводами тогда становится светлей, просторней.
– На юго-восточной опять катастрофа.
Все поворачивают головы, но руки так же механически выбивают, и горох из прорвавшегося мешка без устали сыплется.
– Много?
– Двое наповал, пять тяжело, трое легко…
– Господа, эта Огурчиха-то, которая сбежала с павловским приказчиком, опять к благоверному… денег просит выслать…
Здесь, за этой проволочной сеткой, сосредоточивались все тайны города. Какая фирма, какие ведет обороты, какие кому предстоят платежи, кто близок к банкротству, у кого есть любовница, кого переводят на лучшее место, – все сходилось сюда за сетку, точно тысячи невидимых нитей чужих разнообразных жизней тянулись под эти тяжелые закопченные своды, но жизнь под ними в пряном, тусклом воздухе, заполненном прерывистыми выстукиваниями, от этого нисколько не делалась разнообразнее.
С дежурства Ментиков ворочался домой поздно, часу в первом.
Горели фонари, и над домами стояла луна. От фонарных столбов тянулись по две тени. Ментиков торопливо шел, и рядом также шли две тени, одна спокойная и одинаковая, другая то коротко трепетавшая у самых ног, то вдруг выраставшая, когда он удалялся от фонаря, громадная и черная, через всю улицу. Идти было очень далеко: тротуар, палисадники, дома, подъезды нескончаемо отходили назад, в голове беспорядочно, как комары-толкачи, толклись мысли.
Ему было двадцать два года, и он уже четыре года служил на телеграфе.
Хотелось любви, женской ласки, физической траты молодого, здорового тела, пуститься бегом или поднять что-нибудь тяжелое. Хорошо бы написать корреспонденцию про начальника конторы, устроить угощение товарищам, купить лакированные штиблеты и жениться на той, которой он сегодня говорил «что-с»… Раздражающим воспоминанием встают ярко освещенные комнаты, треньканье разбитого рояля, запах духов и потного тела, накрашенные женские лица с хриплыми голосами, сквернословящие и все-таки манящие и раздражающие.
Неподвижно, как изваяние, вырисовывается фигура городового на перекрестке.
Осенний воздух сыро и холодно вливается в грудь, и над домами такая же холодная, сырая дымка, голубовато озаренная, говорит о чем-то, что не имеет никакого отношения к аппаратам, к начальству, к публике, к дежурствам, к сетке, отгораживающей от остального мира, к мыслям, которые толкутся в голове.
Плиты тротуара непрерывно уходят назад и темнеют влажной сыростью, вызывая представление смоченной гуттаперчи, которую он по целым дням жевал в гимназии, пока его не выгнали.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: