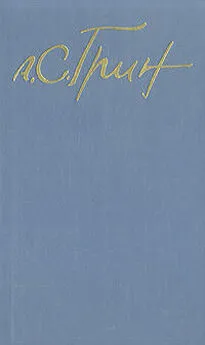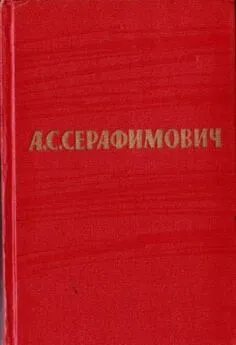Александр Серафимович - Том 3. Рассказы 1906–1910
- Название:Том 3. Рассказы 1906–1910
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Гослитиздат
- Год:1959
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Серафимович - Том 3. Рассказы 1906–1910 краткое содержание
В третий том вошли произведения Серафимовича 1906–1910 гг. Это были годы, трудные для русской литературы. Революция шла на убыль. Царское правительство жестоко расправлялось с рабочими и крестьянами – участниками революционных событий. Серафимович не был в революции случайным спутником, ни тем более равнодушным наблюдателем. Революция пришла к нему, выстраданная всей его трудной жизнью, в грядущую победу революции продолжал он верить несмотря ни на что. Герои рассказов Серафимовича – рабочие, крестьяне, интеллигенты – несут частицы этой веры.
http://ruslit.traumlibrary.net
Том 3. Рассказы 1906–1910 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Он грет старые, заскорузлые, морщинистые руки.
– Стыть… дерево ажнык дерет… до турецкой канпании к холере такая стыть стояла.
Я присаживаюсь возле. Он видит меня, глядит широкими глазами.
– Тебе, дедушка, сколько лет?
– Бегить… Бегить… всякий, который в силах, бегать…
Двор пустеет. По белому снегу темнеет мерзлый конский навоз.
– Зачали стрелять, у нас верхи занялись… дым, плач, второй этаж полыхает, в погребу уж не усидишь, тепло стало, дымком заворачивает… сынок и говорит… сынок у меня кормилец… по сапожному мастерству сызмальства… возле него кормился… бобыль я, никого в свете… один сынок… кормилец…
Лицо подергивается усталостью, глаза тускнеют, уходят в провалившиеся черные впадины, и снова усталое равнодушие в согнутой осунувшейся фигуре.
– Так что, дедушка?
– Вылезли все из погреба-то… дом-то полыхает… господа плачут, все роскошество погибает… Сынок-то, кормилец мой… восемнадцать годов на Миколин день… «Батюня, грит, подь в сарайчик… Може, чего осталось?» Пошел я, а он вяжет посередь двора на салазки сапоги, голенища, подметки, всякий товар, тем и живем, тем и кормимся… нагнулся, вяжет… Вышел я, вышел из сарайчика, бегить из ворот городовой, пузо толстое, глаза стра-ашные, бегить, в руке ружье со штыком… добег до Ванюши, добег, ды… штыком, штыком ево… весь по самый по ствол… Я… я… кинулся… добег, ды как… – Старик захлебывается и, трясясь и наклоняясь к самому моему лицу, стучит костлявыми старческими кулаками, грозит мне, и лицо его дергается злобной не то усмешкой, не то судорогой: – …ды как закричу-у: «Бей!., бе-ей ево!!. бей ево, забастовщика!.. бей ево, забастовщика!.. А-а-а!!.» А он ево штыком порет, штыком… весь снег окровянился… «Бей ево, забастовщика!.. Не дают нашей жисти спокою… кабы не они, спокой был бы нашей жисти!..» Гляжу, лежит Ванюша, руки раскинул… – И старик глядит на меня изумленными, полными муки и ужаса глазами. – А?.. Што я изделал… што я изделал, господин?!.
Двор опустел. Я ухожу. Старик остается один.
Я снова брожу по пустынным улицам, по молчаливым площадям, по улицам и площадям, залитым бегущим народом.
На углах серые шинели, наивно-тупые лица, штыки, приклады.
– Руки вверх!
Я подымаю руки, стою, меня обшаривают.
– Покурим, што ли, – гостеприимно предлагает солдатик, вытаскивает из моего бокового кармана портсигар, неуклюже берет иззябшими пальцами папиросу, подает товарищам и мне возвращает портсигар.
Мы закуриваем. Дымок синими струйками мирно вьется над серыми шинелями. Из-за домов, холодных и спокойных, доносится одиночный выстрел.
Лавки, ворота, калитки заперты. Медленно догорают черные дымящиеся развалины.
Бродить по улицам опасно, но нет сил сидеть дома.
На площади вокзалов бушует огромный пожар. С гарью и дымом несется торопливый треск, шепот и шорох, и свистящее пламя по-змеиному качается острыми головами, мечется и лижет быстро тающий снег, обнажая черную дымящуюся землю.
Орудия молча и длинно глядят хоботами вдоль площади. Серые фигуры часовых мерно прохаживаются вдоль лафетов.
На площади в разных местах, черно выделяясь на снегу, лежат убитые. Возле них собираются кучки народа. Подъезжают широкие с брезентом сани, похожие на те, на которых возят с бойни мясо, на них валят застывшие, раскорячившиеся, упрямо не влезающие трупы, покрывают брезентом и развозят по участкам.
Я подхожу к одной кучке. Стоят молча, угрюмо смотрят. У ног в пустом кругу лежит парень. В застывших скрюченных руках – смерть, но лицо полно молодой энергии, отваги и воодушевления. Рот раскрыт, должно быть, кричал товарищам, и пуля в сердце мгновенно захватила и не дала сбежать с лица живому выражению.
На него смотрят тупо и неподвижно, как смотрят, опустив рога, быки на кровавое место, где только что свежевали тушу. И я стою и смотрю.
С некоторого времени что-то странное, тяжелое стоит у меня за плечами. Несознанное, смутное беспокойство давит, и я шарю по карманам, не потерял ли, не забыл ли чего. Люди уходят, приходят, а тревога моя растет. Я не могу одолеть этого неприятного, давящего, не определившегося беспокойства.
Наконец не выдерживаю и оборачиваюсь: два глаза, два круглых расширенных глаза острым блеском глядят, не моргнув, из-за плеч стоящих людей. И в этом взгляде столько остроты, столько дикого и поражающего, что я отворачиваюсь, но сейчас, словно меня тянет, опять подымаю глаза и слежу за ним. Он смотрит мимо меня, мимо людей, туда, в тот пустой и мертвый круг, где видны скрюченные руки.
Что-то болезненно поражает меня, и я перевожу глаза то на молодое мертвое лицо, то на чернобородое лицо, на котором видны одни только дикие глаза.
И вдруг схватываю сходство: сын!
С болезненным любопытством всматриваюсь в бородатого человека, у которого одни только дикие глаза, – да ведь это Михайло Иваныч, маляр, часто работавший на даче у моего хозяина!
Но что-то не позволяет мне заговорить с ним, а он, не отрываясь, смотрит на юное мертвое лицо.
Он не подходит к убитому сыну, не наклоняется, не плачет, не рассказывает своего горя.
Среди нас глухо и отрывочно перебрасываются:
– Совсем молодой…
– Крови не видать…
– Должно, в сердце…
– Много их тут легло.
– Гляди, и отец и мать есть…
Я тоже не могу оторваться и уйти, хотя стоять тут долго небезопасно – кругом шныряют шпионы, полиция и тех, в ком признают знакомых или родных убитого, уводят в участок, но неизвестно, доводят ли их туда и не лежат ли они так же где-нибудь на снегу.
Подъезжают сани. Взваливают мертвеца со скрюченными руками. Я не гляжу, но чувствую сзади остроту диких, безумных глаз. Сани уезжают. Я ухожу. Несколько раз меня обыскивают патрули.
Чьи-то тяжелые, торопливые измученные шаги догоняют. Он идет рядом со мной.
– Во… сын.
Я не расспрашиваю, идем молча.
Его степенное бородатое лицо, лицо артельного старосты или подрядчика, строгие под нависшими бровями глаза, неторопливые движения глубоко сосредоточенны и покойны. Он идет с опущенными глазами, и от этого лицо тяжело и неподвижно, как каменное. И говорит глухо:
– Ничего… ничего!..
Хрустит снег под тяжелыми одинокими шагами.
– Не признался к нему… это ничего… ничего, еще будет дело…
Улицы пусты. Одиноко стоят дома. Я по-прежнему иду молча; к тому непоправимо-огромному, роковому, что в этом человеке, я ничего не могу прибавить.
– Руки вверх!.. Есть оружие?
Обшаривают.
И вдруг он засмеялся, засмеялся им в лицо, засмеялся ртом, щеками, личными мускулами, но глаза не смеются, а глядят с тем же безумным блеском, как на мертвеца, глядят пылающей, неугасимой, нечеловеческой ненавистью, и из-за этих страшных глаз не видно и не слышно смеха.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: