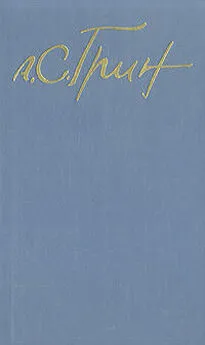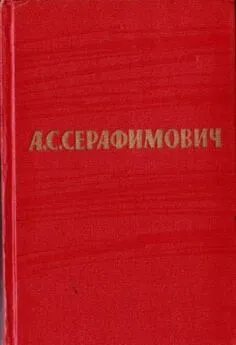Александр Серафимович - Том 3. Рассказы 1906–1910
- Название:Том 3. Рассказы 1906–1910
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Гослитиздат
- Год:1959
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Серафимович - Том 3. Рассказы 1906–1910 краткое содержание
В третий том вошли произведения Серафимовича 1906–1910 гг. Это были годы, трудные для русской литературы. Революция шла на убыль. Царское правительство жестоко расправлялось с рабочими и крестьянами – участниками революционных событий. Серафимович не был в революции случайным спутником, ни тем более равнодушным наблюдателем. Революция пришла к нему, выстраданная всей его трудной жизнью, в грядущую победу революции продолжал он верить несмотря ни на что. Герои рассказов Серафимовича – рабочие, крестьяне, интеллигенты – несут частицы этой веры.
http://ruslit.traumlibrary.net
Том 3. Рассказы 1906–1910 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
– Не сладко?
Яшка стоял над рыдавшей девушкой, когда-то задорной, сильной, кровь с молоком, и из-под черной брови сверкал лукавый глазок. Пришел кто-то и стер румянец, задор, веселье, беспечность, стер и унес и Яшкино счастье, любовь, семью и жизнь мужицкую, в которой он хотел отдохнуть от своей загулявшейся молодости.
И его охватывало сладостно-мстительное чувство, то чувство, с каким он прислушивался к глухому, ни днем, ни ночью не замиравшему напряжению ожидания, которое, как мглой, опутывало и душило мужиков.
Она рыдала.
Он было пошел, но вдруг повернулся, наклонился, взял ее за руку.
– Ганна… слышь…
Жгучее, почти болезненно-радостное чувство невыразимой нежности, жалости подрезало его, как осоку зазвеневший серп. И, точно обрадовавшись нахлынувшему внезапно и помимо воли чувству, он заговорил изменившимся голосом:
– Слышь, Ганна… брось… скажи только слово, горло всем перерву, камня на камне не оставлю… брось… скажи только… уедем… уедем вместе в город, али… куда… брось… заживем панами… только что птичьего молока не будет у нас… Слышь ты, Ганна, люба моя… не клином свет сошелся… раздолье-то куда хошь…
А она поднялась, и на него бесконечной ненавистью глянули сухие, горячечные глаза, и из трепещущих от злобы губ вырвалось:
– Вор… вор!.. будь ты проклят!.. – и плюнула ему в лицо.
Черная глухая ночь молча обнимает невидимые избы, улицы, сады, невидимое небо, степь. Не шелохнется лист; только далекие собаки отрывисто, монотонно и слабо доносят лай.
В избушке тихо, темно, нет огня.
Человек лежит, закинув руки за голову. Задремывает чутким, прислушивающимся сном, которым спал прежде только на «работе», а теперь и дома.
Среди ночи и молчания кто-то ходит легкими, неслышными шагами, прокрадется и к дверям, хрустнет камышинкой, постоит, и опять все та же тьма, наполненная тяжелым молчанием.
– Караулят!..
Зло усмехаясь, поворачивается на бок и засыпает, но сейчас же, как ему кажется, просыпается:
– А?.. – и садится с бьющимся сердцем.
Так же могильно черно и немо, но что-то в этой немотствующей, непроглядно влажной темноте случилось.
– Да ну, ничего нету… собаки али лиса…
Но непотухающее беспокойство не дает сомкнуть глаз. И он подымается и, напряженно впиваясь в густую, все заслоняющую, ровную, таинственную тьму, безоружный выходит на двор.
Темно и тихо.
В нешевелящейся напряженной темноте, кажется, вот-вот недовольно, сдержанно, угрожающе заворчит гром, широким, на секунду синевато задерживающимся светом полыхнет молчаливая молния, но по-прежнему темно и тихо.
Глаз понемногу привыкает. Смутно, черным контуром, подымается угол избы и тонет вместе с крышей в океане мрака. Гуще, чем эта непроглядная ночь, проступает темная чаща деревьев и тоже расплывается в тяжелой, влажной, давящей тьме.
– Никого… попритчилось…
Он уже хочет уходить – как глаз поражает смутный, неподвижно-темный контур человека в стороне под деревом. Он – прямой, высокий, как будто проглотил палку.
– Ты что?
Тот неподвижен.
Волосы шевелятся на голове Якова.
– Кто? – и, протянув руку, делает шаг.
Рука натыкается на платье. Это – женщина. Она такая же неподвижная, вытянутая, неестественно высокая и – что покрывает ужасом – слегка откачивается от руки, ощущающей последнюю теплоту стынущего тела.
– Ганна…. Ганна!.. Слышь? а? Ганна… – бормочет он бессмысленно, стараясь притянуть и поставить на ноги, которые, упрямо качаясь, не касаются земли.
И ночную тяжелую тьму по-звериному прорезает крик и потом повторяется слабее за терновником в камышах.
Лошадь перестает жевать наваленное перед нею сено, стрижет ушами. Через минуту слышен ее тяжелый скок и треск ложащихся, ломающихся камышей и все слабеющие, пропадающие вместе с лошадиным топотом в темной степи бешено-звериные крики:
– Ратуйте!.. ратуйте!.. ратуйте!..
Позади по-прежнему неподвижно темно, и лишь доносится замирающий лай собак.
Он продолжает скакать в глухую степь, где нет людей, жилья, нет завтрашнего дня, просыпающегося круга очередной работы, забот, – в глухую безлюдную степь, где по непролазным чащам глухих оврагов и балок щенятся лишь волчьи выводки.
Уже все чаще спотыкается лошадь, огромное пространство молчаливо ложится позади.
Вдруг изо всех сил откидывается назад, бешено натягивая поводья.
Лошадь садится на задние ноги, задыхаясь и крутя головой. Совсем перед лошадиной мордой встают черные силуэты, как будто хаты.
Ни малейшего звука, ни лая, ни шороха. Не ворчит гром, не вспыхивают зарницы. Не слышны обычно заполняющие летнюю ночь непрестанным, неумолчным сверлением кузнечики. Тучи, тяжелые, мрачные и влажные, невидимо и низко лежат на земле, все так же удушливо обещая ночную грозу и не давая ни капли дождя.
И опять прорезывает густую тьму.
– Ра-туй-те!..
Он поворачивает, бьет исступленную лошадь и скачет в другую сторону, туда, во тьму, от людей, от их жилищ, и невидимо рвущийся из-под копыт конский топот снова заполняет беспредельно простирающуюся тьму. Только изуродованными, разорванными кусками несется темный воздух, свистит в ушах, безжалостно треплет одежду.
Уже с хриплым, свистящим дыханием рвется под ним лошадь, но не видно ни падающей пены, ни вытянутой головы и шеи, ни кровавых ноздрей, ни улетающей сухой, твердой земли.
И, наполняя душу несказанным ужасом, смутно проступая, черно вырастают – как будто контуры хат, молчаливые, немые…
– Ратуйте!.. ратуйте!..
Но уже не может сдержать скачущей лошади и, припав к ее мокрой от пены шее, мчится к этому неподвижно чернеющему человеческому жилью, как в черную пропасть…
На другой день мужики нашли в степи на току среди неподвижно молчаливых скирд лошадь. Она лежала, как грянулась об укатанную землю, с запавшими боками, вытянутыми, как колья, ногами и застывшей пеной в оскаленных зубах. Возле, раскинув руки, лежал Яков с разбитой о молотильный каток головой.
Мишка-упырь *
Как только Мишка-упырь протер глаза, первое был гудок, ровный, настойчивый, непрерывно гудящий в утренней темноте, и первой проснувшейся мыслью было сейчас же незаметно выскользнуть из дому. Но, чтобы не обратить на себя внимания, неподвижно лежал под своими лохмотьями.
В углах, в окнах еще стоит редеющая темнота. Слышен надрывающийся отцовский кашель; смутно чернеет его фигура над лоханкой, – нагнувшись, умывается. По тому, как гремит кружкой, кряхтит и кашляет, Мишка чувствует, что отец зол, не выспался.
Мать торопливо готовит поесть отцу, просыпаются ребятишки, и в заполненной духотой комнате – зевота, бормотанье, всхлипывание, плач маленьких детей.
Отец ушел, но гудок все так же упорно стоит за обозначившимися переплетами посветлевших окон. Кажется, ему и конца не будет.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: