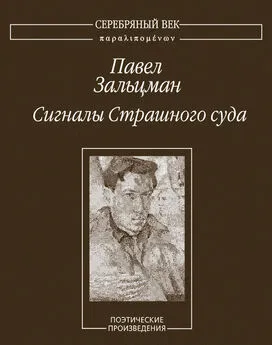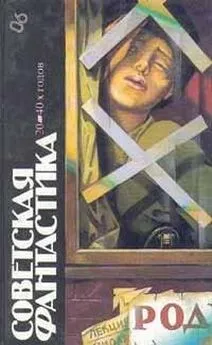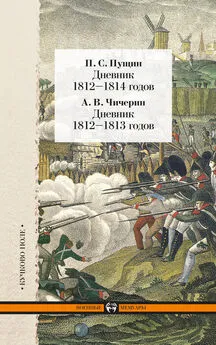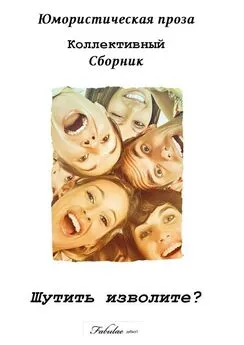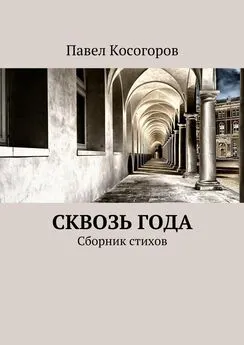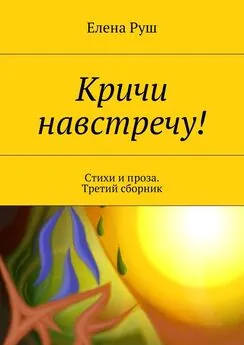Павел Зальцман - Щенки. Проза 1930-50-х годов (сборник)
- Название:Щенки. Проза 1930-50-х годов (сборник)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Водолей»11863a16-71f5-11e2-ad35-002590591ed2
- Год:2012
- Город:Москва
- ISBN:978-5-91763-111-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Павел Зальцман - Щенки. Проза 1930-50-х годов (сборник) краткое содержание
В книге впервые публикуется центральное произведение художника и поэта Павла Яковлевича Зальцмана (1912–1985) – незаконченный роман «Щенки», дающий поразительную по своей силе и убедительности панораму эпохи Гражданской войны и совмещающий в себе черты литературной фантасмагории, мистики, авангардного эксперимента и реалистической экспрессии. Рассказы 1940–50-х гг. и повесть «Memento» позволяют взглянуть на творчество Зальцмана под другим углом и понять, почему открытие этого автора «заставляет в известной мере перестраивать всю историю русской литературы XX века» (В. Шубинский).
Щенки. Проза 1930-50-х годов (сборник) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Лодка спокойно переходит рукав реки. Перевозчик стоит на носу. При каждом ровном движении кусок проволоки с шипеньем появляется из воды и с него падает вниз масса искрящихся капель, а сзади проволока снова уходит в воду, в глубокую темноту, по мере того как лодка удаляется от берега.
V. Перевозчик
От песка с чертами проползших мидий [18]подымается красная тропа, затененная лозняком. С каждым шагом от Днестра становится жарче. Глина трескается, дорогу переползают арбузики на длинных змеящихся стебельках.
Балан и перевозчик выходят на верх, им становится виден весь остров. Плоские огороды пересечены тремя оврагами и прямыми каналами от колодца, по которым ярко разгорелась зелень. Капустная белая площадка прерывается там, где чернеют кавуны. Близко от колодца под вербой стоит шалаш. Балан направляется к нему по краю острова. Длинные тени лозовых веток пятнают идущих.
Перевозчик думает вот что:
«Я был очень неприятно застигнут, когда старик принес мне платок. Прежний дом стоял над рекой, работали два верблюда. С их ртов падала пена на капустные кочаны, и голубые жилы на руках старика потрескались от жары.
Сперва нужно через перелаз, и начали лаять собаки. У черной красные глаза. Она лежит в конуре за влажной крапивой. Перед конурой стоят две яблони со стволами, вымазанными вапном. Передняя правая нога у собаки перебита, а хвост сухой без шерсти, так что просвечивает красная кожа. Из-за второго забора, сплетенного из засохшего теперь лозняка, отозвалась другая собака. А первую звали Цыган.
На базаре воняли мясо и кровь, собравшие мух. А здесь пахнет рекой. В самом ее истоке на горе, задолго до водопада, когда она еще ручей, бегущий по степи, я видел длинные цепочки лягушечьей икры. Притом несколько теплый туман, сквозь который, как здесь сквозь жару, долетает холод близкой воды. Надо снимать сапоги, и ноги, красные и вспухшие от ходьбы, делаются белыми, если сразу в воду. Она текла под дождем, и еще вчера куры прятались под кусты крыжовника и хохлились от тяжелых капель.
Сами капли похожи на крыжовник. Там он был великолепный.
Пока моя мать услужала старухе, я пошел в сад к кустам. Выглядывая из-за веток, я осмотрел дом за стволами. Крашеные ставни закрыты. На холодных потолках внутри острые лучи от окон. В комнатах не было мух. Здесь за окнами гудели пчелы и дрожали яблони, а с базара шел звон.
Я сел в траву под кустом понезаметней и стал срывать и есть крыжовник. Я торопился, он был кислый, сладкий, волохатый и лопался на зубах. Нельзя было кончить, но я съел много. Тогда, развернувши платок, который мне дали на праздник, и набравши полный, я связал его уголки и понес к муру. Там я положил его в траву у перелаза и прикрыл лопухом. После крыжовника мне захотелось пить. Боясь войти в большой дом, я увидел в сенях, разделяющих хату кухарки на две половины, полное чистое жестяное ведро. Рядом стояла тоже жестяная кружка. На глиняном полу под скамьей было небольшое темное пятно от пролитой недавно воды. Я зачерпнул кружкой, выпил все и черпнул снова.
Вдруг я услышал, что по двору идет старик. Он держал в руке мой платок. Узелок, полный крыжовника. Он спросил:
– Кто это оставил?
Мне было жалко платка, и я ответил:
– Я.
Он подал мне узелок молча и пошел в дом. Зачем мне это? Я спускаюсь к берегу. С чем обратиться к молчащему человеку? Неспрошенный на все, что слышит, должен отвечать молчанием. Я спускался к берегу за листьями молча, дыша тихонько, обнимая не руками, а глазами. Я видел белое голое тело. Я не мог шевельнуть ни ее рукой, ни веками, ни поторопить, ни замедлить, ни приблизить, ни отдалить и не мог сам оторваться.
Будь они прокляты, за кем я тянусь молча, неспрошенный, дыша потихоньку, обходимый молчанием в ответ на крики, молчаливым удивлением, забывчивым, не интересующий. А они мне интересны. Этого я не скажу никому.
Освещенная солнцем Дона входит в воду. Тонкие колени в чужих бегущих пальцах. Теплые слои ласкают кожу выше.
Повороты ее головы, улыбки своим мыслям, касание рук, заплетающих и укладывающих косы, медные, русые вокруг головы, владение своим телом, безраздельное. Легкие части, свободные и подвижные – все вырвано из зажатых рук проснувшегося вора… Не мое, не мое.
Как страшно мысли отгадать свой смертный конец: как ей страшно отдать все, чем владели руки и глаза-слу́ги, и оставить зеленое поле после смерти не свернувшимся и почерневшим, а сразу ощутить взаимосвязь власти навыворот, наоборот. Моя женщина, мной сознанные плечи, мной узнанные слова и моя жизнь через тело – спасительная рука в реке. Что я? Что за мысль? после… Это до меня и после чужие. А сам я молча за листами, их слуга, их блеск, отражение чужой власти и чужой мысли. А, прокля́тая, трижды про́клятая мимолетная мысль старика о слабодушном мальчишке, брошенная и забытая мысль! Я ее отраженье.
У меня в хате топчан и тюфяк, набитый соломой, и молоко в крынках. В казанке картошка, масло в погребе. У глиняной печки моя жена варит картошку на день. Это все они знают. Там дом и резная кровать. Полосатая дорожка ведет в чужие покои. И я их не знаю. Я в господарстве приставлен к месту как веник-голяк к голбцу [19]. Таким винычем, как я, у них увешен чердак. Всем даны чужие лица, и мне дано. На моей жене – маска древесной коры. Морщины усилий отвердели, и борозды на лбу и на душе. Я хотел решить своей рукой, вылепить себе человека, но по своей воле я не могу открыть ни плеча, ни ноги, ни шагу. Дону заслоняют стены, платья, крепкая одежда, силы или кривая старуха. А у меня все открыто. Мне толкнули чужую тварь, как собаке – хлебный шарик, пахнущий скатавшей рукой.
Добуду чистое тело. Обращу к себе, запятнаю своим клеймом.
Новорожденная душа, где ты?
Я удержусь на земле долго, проживу, разбив лицо, разойдясь, впиваясь в души, мне тесно, тесно в этом теле. В обшарпанных штанах, в своих плечах. Почему не в тех, кто пьет, кто поет, кто сжимает? Сколько их? Вот завешенные женщины с каждым шагом уносят от меня груди, головы, ноги, а дома́ закрывают двери. Все – мне, чтоб разлиться по всем, сохранить себя от смерти и тиснуть пальцы на все.
Так стану же я растравлять каждодневно голодную собаку злобой. Увеличатся кости в сотни, голод вырастит расстояния, уменьшит горы до грубок, повернет ко мне целое частями. Только части мне покорятся, но клейменые мною тела не уйдут с моей ненавистной цепи. Я проникну насильно в мысли и стану всюду. И не будет тайной улыбки или плача, этой, моей, скорей! завоюю! без краешка губ и глаз обо мне. Тогда она будет моей. Мне кто-то не дан из сотен тел. Овладел другой моей дорого́й. Она живет в одном. За это я отомщу страшно. То, что мне не выпало на долю из мечтаемой близости, из дружеской сокровенной тайны – пройду по живым, чтоб выискать, и выдеру с кровью в поисках.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: