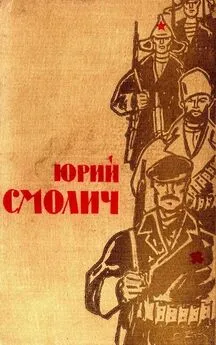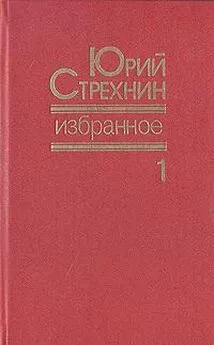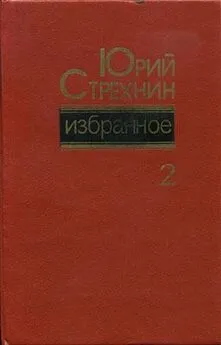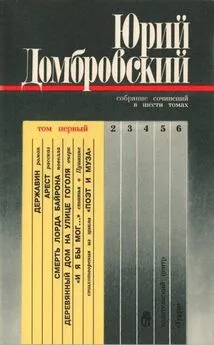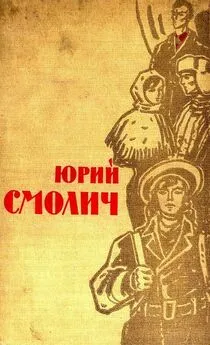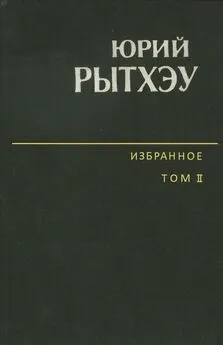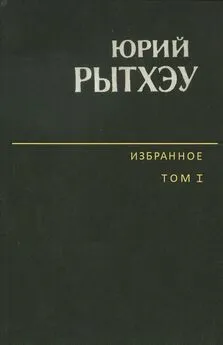Юрий Смолич - Избранное в 2 томах. Том первый
- Название:Избранное в 2 томах. Том первый
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Государственное издательство художественной литературы
- Год:1960
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Юрий Смолич - Избранное в 2 томах. Том первый краткое содержание
В первый том «Избранного» советского украинского писателя Юрия Смолича (1900–1976) вошла автобиографическая трилогия, состоящая из романов «Детство», «Наши тайны», «Восемнадцатилетние».
Трилогия в большой степени автобиографична. Это история поколения ровесников века, чье детство пришлось на время русско-японской войны и революции 1905 года, юность совпала с началом Первой мировой войны, а годы возмужания — на период борьбы за Советскую власть на Украине. Гимназисты-старшеклассники и выпускники — герои книги — стали активными, яростными участниками боевых действий.
Избранное в 2 томах. Том первый - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Аркадий Петрович кинул на подводу свою форменную с золотыми пуговицами и звездочками на воротнике, учительскую тужурку. Теперь, в одной рубашке, он никак не походил на педагога, а скорей на гимназиста-восьмиклассника, даром что лысого. Хотелось подойти и стукнуть его кулаком по спине.
Гаудеамус игитур, ювенес дум сумус —
Пост юкундам ювентутем, пост молестам сенектутем,
Нос габебит гумус!
Вита ностра бревис эст, бреви финиетур, —
Венит морс велёцитер, рапит нос атроцитер,
Немини парцетур! [3] Будем радоваться, пока мы молоды, — после короткой юности, после чреватой болезнями старости, нас примет земля! Жизнь наша — коротка, конец — близок, придет неумолимая смерть, схватит нас неожиданно, никого она не минет! (лат.)
За четыре часа пути мы перепели охрипшими, надорванными голосами весь наш гимназический песенный репертуар. Запевали Аркадий Петрович и наш присяжный певец Матюша Туровский.
Мы остановились на холме.
Отсюда, с высоты, мы видели мир вокруг нас километров на двадцать. До самого горизонта, сколько доставал глаз, расстилались клетчатой плахтой луга, поля и выгоны. Кое-где их неожиданно перерезала балка причудливым зигзагом яров, овражков и балочек. Кое-где волнистой стеной подымался грабовый лесок со свежими порубками. Какое приволье! Какое чудесное, ни с чем не сравнимое ощущение простора!
Прямо перед нами, в глубокой ложбине, лежал огромный и чистый пруд. До полукилометра шириной и километра два в длину. За ним — плотина, мельница и узенькая речушка. Но через полкилометра речка снова разливалась зеркальным плесом чуть меньшего, широкого и чистого пруда. Потом снова плотина, мельница и узенькая речушка. И так — сколько видит глаз, без конца, пока третий или четвертый пруд не скрывался за поворотом разлогой, широкой балки. Пруд, плотина, мельница, речонка, пруд — так почти замкнутым кольцом опоясывали они огромный плоский холм, разграфленный четырехугольниками полей, изрезанный лентами дорог, расшитый зелеными купами дерев. В центре холма, в гуще садов, пересеченных широкими дорогами, белели и синели хаты под соломенными кровлями. Это была Быдловка.
Фу, до чего же прекрасно!
В это время на взгорке из-за поворота прямо нам навстречу вынырнула коренастая, хотя и юная фигура. На голове у нее была гимназическая фуражка.
— О! Милорд, а вы здесь какими судьбами?!
Весело осклабившись, к нам подошел одноклассник Потапчук.
— Здравствуйте, Аркадий Петрович! — приподнял он фуражку. — Здорово, хлопцы! — поздоровался он и с нами, стукнув ближайшего своим здоровенным кулаком по спине.
Встретить среди неведомых полей и нив, под необъятным и вольным небосводом, в горячих лучах летнего солнца своего школьного товарища — как-то особенно весело и приятно. Мы с радостными криками окружили Потапчука, и каждый старался дружески садануть его кулаком. Бедняга насилу вырвался.
Петро Потапчук, несмотря на свою крупную и коренастую, неожиданную для семнадцати лет фигуру, был у нас в классе малозаметной и ничем не выделяющейся личностью. Не отличаясь выдающимися способностями, он, однако, вопреки гимназической традиции очень ревностно относился к учению. Чуть не каждый год его исключали из гимназии за «невзнос платы за право учения». И каждый раз, походив недели две выгнанным из гимназии, Потапчук возвращался после специальных благотворительных вечеров или благодаря какому-нибудь аналогичному случаю. Был Потапчук одним из беднейших учеников у нас в классе. Он даже учебников никогда не имел своих, приходилось брать у товарищей. У его матери, вдовы, была в деревне микроскопическая хатка с микроскопическим при ней огородом. Что касается земли, то старуха Потапчук имела ее всего полморга [4] Меньше четверти гектара.
, в трех километрах от села.
Появление Потапчука здесь, вдали от города, было нам чрезвычайно приятно. Но надо сказать, что особенную радость выказал Макар.
— Хлопцы! — чуть не захлебнулся он. — Это же замечательно! Потапчук — одиннадцатый! Он неплохой футболист! Конечно, вообще немного придется его потренировать. Мы перебросим Воропаева на место Жаворонка, а Потапчука поставим первым беком. А?
— Гайта-вье! Вишта-вье! — задергали вожжами наши возницы, и, поскрипывая приторможенными колесами, наши подводы покатили вниз, в балку, к пруду, к плотине и мельнице.
С веселыми возгласами, презрев нашу солидность семиклассников, мы, обгоняя повозки, кинулись наперегонки. Село бежало нам навстречу — со всеми своими улицами, площадями, садиками, усадьбами и постройками. Мы были путешественники, навигаторы, смелые мореплаватели, и это неведомый остров плыл нам навстречу из недр океана, из тайны. Не обозначенный до сих пор на карте, он встретился нам на нашем морском пути. Таинственное неизвестное племя заселяет этот остров. Нам первым предстоит открыть его и изучить.
Начать работу нам пришлось на поле у сельского старосты.
Староста был первым богатеем в селе. Ни он и никто из его семьи не числились запасными. Даже сыновей в армии он не имел, так как после первой жены остался бездетным, а вторая родила ему четырех дочерей. Эти четыре дочери — сытые и дебелые девки — вместе с нанятыми жнецами легко и быстро могли управиться на десяти десятинах старостовой земли. Помогать им не было никаких оснований. И все же первый день нам пришлось работать именно тут.
Дело в том, что никто из крестьян, ни одна из жен запасных, помогать которым мы приехали, не согласилась пустить нас к себе на работу.
«И что они могут, такие сопляки? — прямо нам в глаза говорили они. — Да они только хлеб попортят. Хлеб-то еще выжнут или не выжнут, а уж руки себе да ноги наверняка повыкосят!..» Заканчивались такие реплики насмешливым хохотом и уже вовсе непристойными эпитетами в наш адрес. Мы были растерянны, смущены и изрядно задеты.
Вот тут-то и пришел нам на помощь сельский староста, он почел это своей обязанностью, как представитель местной власти. Ведь ему могла потом при случае еще выйти за это благодарность. Да и, что греха таить, стоило рискнуть полуморгом, чтобы нас подучить, и потом, с нашей помощью вдвое быстрее убравшись, послать дочек на поденную. Рабочие руки были дороги, и самая бедная вдова или солдатка с радостью даст третий сноп. А до войны он сам платил десятый, а то и пятнадцатый.
Мы вышли в поле до зари.
Было четыре часа, и только начинало светать. Деревья и кусты стояли кругом тихие и недвижные, склонив долу тяжелые, набухшие росой ветви. Суетились и шумели по дворам и на улице большими стаями воробьи. Ленивым шагом выходили за ворота коровы, подымали кверху головы и громко, протяжно мычали. Потом опускали головы к земле и тихо брели за стадом. Перекликались бесчисленные петухи, со всех концов приветствуя друг друга радостными криками. Их было не меньше нескольких сот, но среди этих сотен голосов не нашлось бы и двух одинаковых.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: