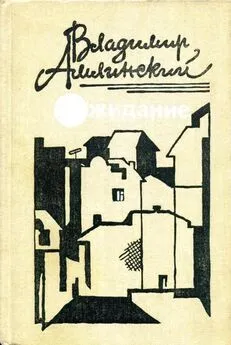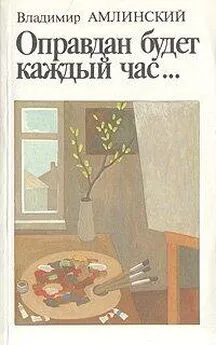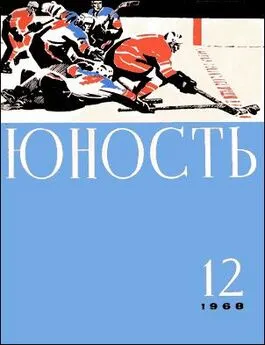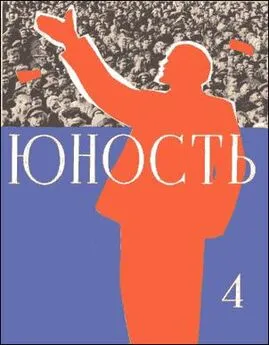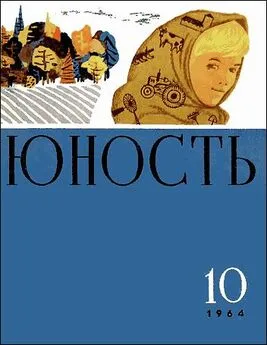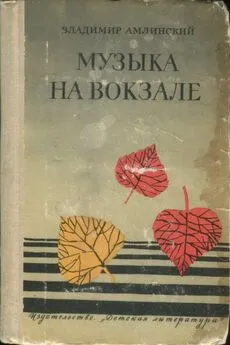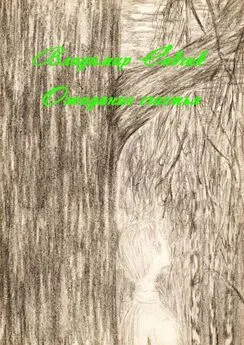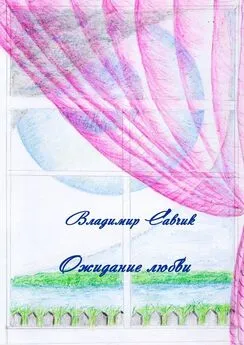Владимир Амлинский - Ожидание
- Название:Ожидание
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Художественная литература
- Год:1985
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Амлинский - Ожидание краткое содержание
В книгу «Ожидание» вошли наиболее известные произведения В. Амлинского, посвященные нашим современникам — их жизни со сложными проблемами любви, товарищества, отношения к труду и ответственностью перед обществом.
Ожидание - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— А что тут высказываться? Собственно говоря, я не вижу предмета для обсуждения.
Декан широко развел руками:
— Вот видите, нету предмета. Что же у нас с вами в вузе должно случиться, чтобы вы посчитали это за предмет? Так вот мы и потворствуем им, так вот мы их и портим… Вот как мы относимся к нашей творческой смене.
— Относимся, действительно, не лучшим образом. Только я о другом думаю. Мало мастерских. Плохо с натурщиками. Формально проходим, точнее пробегаем, историю искусств, историю живописи. Художникам, будущим профессионалам эта история толкуется ученически, упрощенно, по-дилетантски. Не знаем собственного прошлого, своих памятников, великих взлетов ранней нашей живописи, русского зодчества. Вы много говорите о современности, о связи с жизнью, — Мастер быстро, жестко взглянул на декана, — но мы с вами ее понимаем по-разному. Я за точность видения, за свой взгляд. Вы — за приблизительность. А приблизительность в искусстве не проходит, здесь, если не выстрадано — значит, пусто. Очень мне жаль, что меньше стало в институте классных преподавателей, знающих мастерство, умеющих конкретно показать студенту, к а к надо делать.
— А те, которые есть, — бесстрастным, нарочито стертым голосом сказал декан, — появляются редко, не знают, чем заняты их студенты.
— И с этим я согласен. Я принимаю на свой счет. Но художнику и самому хочется поработать, пока работается.
— Значит, надо, как бы это поточнее сказать… выбирать…
— А выбора нет. Я бы, может, ушел из института, да, выходит, нельзя уходить. Нельзя отдавать способных людей в чужие руки, тем более в руки, от нашего дела далекие.
Кашлянув, вступился до сих пор молчавший ректор:
— Мы сейчас, уважаемый Игорь Николаевич, педагогов не обсуждаем. Мы студентов обсуждаем. Так что ближе к теме.
Так же не подымая глаз, острым своим, как бы раздраженным голосом Мастер сказал:
— Педагогов тоже иногда обсудить не худо… А что касается студентов, то в качестве самой большой заразы и бог знает чего еще здесь говорится о наиспособнейших. Никитин у меня самый сильный, да и не только на курсе… И работа, представленная им на выставку, очень занятна.
— Вот именно занятна, — сказал декан.
— Ну, это уж моя терминология. Я бы мог сказать талантлива, самобытна, но я опасаюсь таких слов. Во всяком случае, в Никитине я вижу художника. Что же касается второго, Афанасьева, то он тоже одаренный человек, у него есть фантазия, я бы сказал, прирожденная техника… Правда, он несколько книжный, но и это не беда, пройдет. А ярлыки клеить — дело легкое. — Казалось, его сейчас поведет в спор, в какую-то неслыханную дерзость, такое у него было лицо, но, словно спохватившись, он сказал уже другим, спокойным и как бы типично преподавательским тоном: — Не знаю, как по другим дисциплинам они успевают, но по моей я спокойно могу поставить им хорошую оценку.
В зале прошел шумок. Побледневший декан встал.
— Вот вы сказали, педагогов мы не обсуждаем, — сказал Цесарский. — Будет время, обсудим и педагогов. А сейчас мы обсуждаем студентов. Двое наиспособнейших, как выразился их руководитель, самовольно покинули практику, представили работы, сознательно искажающие людей. А когда им было сказано, что эти работы не принимаются, они самовольно выставили их на всеобщее обозрение. Вам не нравится термин профнепригодность. Пожалуйста, я ставлю вопрос о гражданской непригодности, опаснейшем инфантилизме и о том вреде, который может принести нам попустительство и поглаживание по головкам. Не такое сейчас время. Мы подорвем авторитет нашего вуза, если будем терпеть пренебрежение к его порядкам и традициям… Может быть, они действительно и небездарные люди. И я вовсе не желаю им зла. Но они должны получить урок, который будет понятен и остальным, потому и отношусь к этому со всей серьезностью и прошу всех отнестись также. Считаю необходимым поставить вопрос об отчислении.
— Этот вопрос мы будем решать на ученом совете, — нарочито неторопливо, как бы снимая накал, напряжение, сказал ректор.
Неопределенность затянулась и стала привычной. Никто нас не выгонял с лекций, мы готовились по-прежнему к зачетам, но, проходя каждое утро мимо доски приказов, останавливались.
Мы ждали приказа, а приказа все не было. Мы оглядывали эту доску бегло, но цепко, мы не показывали даже друг другу, что ждем… Нет, не ждем, все будет в порядке.
Но я ждал. Не знаю, как Борька, но я ждал. Меня еще не исключили окончательно, но я сам словно бы исключил себя. Еще не случившееся виделось мне как случившееся.
Борька же чаще всего был хмур, резок, слегка поддавал и тогда добрел и говорил мне: «Ни хрена, прорвемся».
— Ни хрена, прорвемся, — повторял я.
Я не показывал своей жалкости, своей растерянности, наоборот, я шутил, острил, небрежничал. Потом ребята говорили: «Ты держался молотком». У нас так тогда говорилось: «молоток». То ли от слова «молот», то ли от слова «молодец». Кремень-парень, железо.
Раз никто не видит, значит, я действительно молоток.
Борька Никитин видел, скорее даже не видел, а чувствовал.
Мы провожали друг друга, то он меня до дома, то я его до общежития. Говорили о самых разных вещах, только не об этом. Вроде все уже давно рассосалось… Но висело, висело. Мы и сами это хорошо чувствовали в институте. И потому Борька, чуть кривляясь, говорил мне, когда прощались: «Старичок, не боись».
Выражение дворовых огольцов послевоенной поры. Нормальные слова «не бойся» как бы поворачивались, приобретали другой смысл: лихость, напористость, бесстрашие.
Такой корявенький, успокаивающий девиз.
…А приказ, который мы ждали, был уже напечатан.
И был обсужден. Кем-то утвержден, а выше, — нет. И в последний момент ректор дал отбой.
Секретарша, жалевшая нас, — есть такие секретарши, которые всегда жалеют, — показала нам потом стенограмму ученого совета.
Цесарский наскакивал, но ректор его сдерживал, поправлял, снимал углы, и в заключение он сам выступил.
Он говорил весомо, рассудительно, как всегда.
— Ну что ж, и так бывает. У двух уважаемых педагогов две противоположные точки зрения. Думаю, что каждый по-своему прав. Конечно, нам следует быть более внимательными к нашей художественной смене. Студенты, о которых идет речь, люди одаренные, безусловно перспективные. Но их, что называется, несколько занесло. Но на то мы и педагоги, чтобы их поправить, подсказать. У них есть сильный творческий руководитель, известный Мастер. Но и Игорь Николаевич прав, заботясь о творческой индивидуальности, о самобытности, о том, чтобы наши студенты были не копиистами, а художниками, мастерами. Только тогда они и сумеют передать дух времени, его движение. И поэтому, я думаю, надо вести разговор шире, не сводя к работам двух отдельных студентов, надо говорить об учебно-методическом процессе, о наших практиках, о порядке в наших общежитиях, о каждодневной воспитательной работе.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: