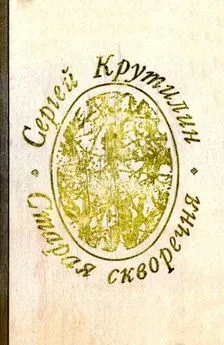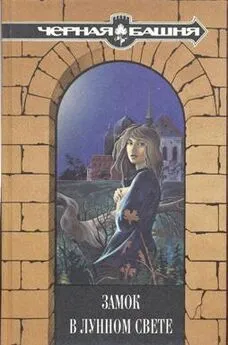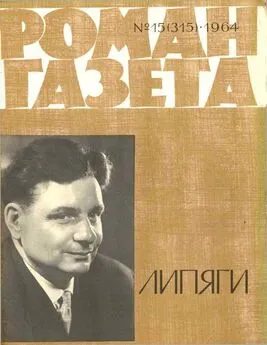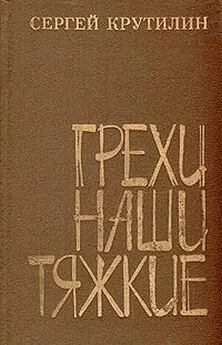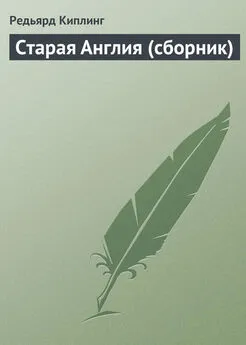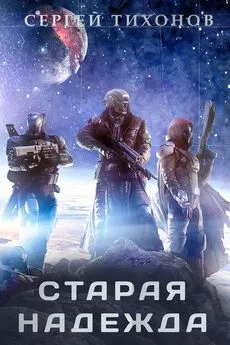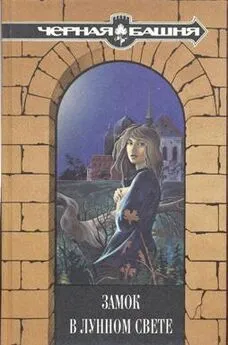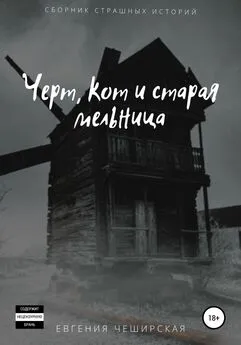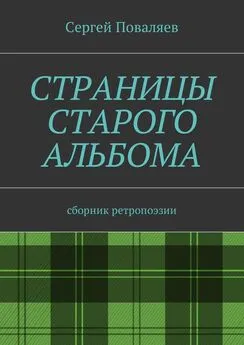Сергей Крутилин - Старая скворечня (сборник)
- Название:Старая скворечня (сборник)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Современник
- Год:1973
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Крутилин - Старая скворечня (сборник) краткое содержание
Три повести составили сборник Сергея Крутилина. На первый взгляд, они разные по материалу и по времени, в котором развертываются события, и по манере письма. И все же есть в них много такого, что роднит их. Повести проникнуты одной общей темой — раздумьем о жизни. Правда жизни и ее отображение являются основным направлением в творчестве писателя.
Старая скворечня (сборник) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
К реке можно было спуститься тут же, возле дома. Спуститься, перейти по мостику на ту сторону Быстрицы и опушкой леса, спрямляя изгиб реки, выйти к Черному омуту. Чудное место! Река там широка; в омутах, меж зарослей осоки и кувшинок, охотятся голавли и окуни. И самое главное — далеко от селения, можно посидеть одному, без людей.
Однако косогором Тутаеву идти не хотелось. Тропинка, ведущая к мостику, петляла мимо его дома. Проходить мимо него, зная, что он уже не твой, было выше его сил. Поэтому, выйдя из калитки, Семен Семенович свернул влево и пошел деревенской улицей.
Дом покойной Американки стоит посреди деревни, он как бы делит ее на две части: на Бугровку и Низовку. На Бугровке десять изб, и на Низовке столько же. Выходит, в Епихине вместе с «белым домом» всего-навсего двадцать одна изба. А колхозников — и того меньше: в деревне немало посторонних людей, дачников. Епихинцы недолюбливают их и зовут только по-уличному, прозвищами. Одного тутаевского дружка, тоже рыбака-любителя, зовут «полковником». Хотя он вовсе не полковник, а всего-навсего майор интендантской службы. Уйдя в отставку, он купил избу у Дарьи Прохоровой, которую сыновья взяли к себе в город; майор развалил старую Дарьину избу и на месте ее за одно лето поставил новый щитовой дом. Поставил, выкрасил его в желтый цвет, и это яркое пятно выделяется среди серых епихинских изб.
Но дом «полковника» — на том, противоположном конце, на Низовке; и дом лесника Сольтца — не то латыша, не то немца, мужика крутого, замкнутого и хозяйственного, — тоже там; а на этой стороне, что ближе к лесу, тут все колхозники, и всех их Тутаев хорошо знал, так как общался с ними каждый день.
Избы в Епихине на вид невзрачные. Окна без ставней и без наличников; на фронтонах и карнизах — ни одного украшения: ни резьбы, ни балясин. Уж на что дом бригадира Игната Тележникова хорош — всего на нем в избытке: и красок и стекол. Лаку много, а балясины ни одной. Этот аскетизм, который словно бы подчеркивал временность жилища епихинских мужиков, объяснить было трудно. Скажем, где-нибудь в степных селах — оно понятно: там не до резьбы и балясин — каждая доска, что называется, на вес золота. А вокруг Епихина, куда ни погляди, всюду лес, а вот вкуса к украшению своего жилища у мужиков нет.
Видимо, дело тут в прошлом, в истории.
Тутаев вычитал как-то в одной старой книжке, что Епихино возникло в конце шестнадцатого столетия. Первоначально это было ссыльное поселение монахов серпуховского Владычного монастыря. Монахи, совершившие проступок или пожелавшие снова жить «в миру», ссылались в эту глухую лесную колонию, названную Епихиной пустошью. Однако уже столетие спустя, сразу же после избрания царем Михаила Романова, Епихина пустошь была пожалована Анкудину Стопкину «за его верность в нужное и прискорбное время».
Впоследствии деревенька неоднократно перепродавалась. Последним владельцем Епихина, как уверяют старики, был отставной генерал Жигарев. В ту дореформенную пору он слыл либералом. Определенного размера оброка у него не было: сегодня получено сполна, а завтра, когда мужикам нужны были паспорта, чтоб идти в отход, с них требовали новую дань. К старости генерал сделался на редкость скуп. Никто у него никогда не обедывал, а епихинские мальчишки были обязаны носить ему диких голубей, которых он замораживал впрок на зиму и этим питался, без покупки провизии в городе.
Сыновья Жигарева, дожившие до революции, промотали все состояние, нажитое покойным генералом. Они держали пышную псовую охоту и к обеду за шампанским посылали нарочного не в Поляны, а в Калугу, за шестьдесят верст.
В революцию мужики сожгли поместье Жигаревых. От барского дома и многочисленных псарен сохранились лишь замшелые камни да еще десятка полтора вековых лип, которые чернеют и поныне в километре от Епихина, где берет свое начало Погремок.
19
Шагая вдоль улицы, мимо мрачноватых изб и глиняных мазанок, Тутаев по привычке перебирал в уме каждого обитателя избы — кто чем живет и промышляет.
Рядом с Зазыкиными — изба Николая Петровича Котова, или просто Петровича, как его зовут в деревне. Наверное, нехорошо так о соседях, но почему-то Тутаеву, когда он подумал об избе Котовых, пришло на ум такое сравнение, что изба их чем-то похожа на Фросю — жену Петровича: приземиста, аккуратна, и все норовит выставить себя наперед других.
Петрович рукодельник. До войны в маленьком их хозяйстве он был кузнецом: подковывал лошадей, ремонтировал плуги и повозки. Всю войну проработал на Тульском оружейном заводе. По металлу он любое дело умеет — и сверлить, и строгать. Оставляли его при заводе и квартиру обещали, но он не согласился, вернулся в колхоз. Каждое утро за ним приезжает машина и отвозит в Лужки, где колхозные мастерские. Отвозит и привозит. А в уборочную — ночь-полночь — сам Шустов за ним на своем «газике»: то у комбайна полотно порвалось, то у трактора задний мост полетел — без Петровича не обойтись.
И сыновья в отца пошли — деловые, выучились, стали инженерами.
Только Нина, дочь, не поступила в институт: продавщицей в Полянах работает.
Пока росли ребята, Фрося держала и корову, и овец, а теперь в ее хозяйстве только одна птица — куры, гуси, утки, и тех она кормит ради интересу, потому как, если нужно им мясо, то Шустов всегда Петровичу выпишет с колхозного склада.
Петрович первым в Епихине купил телевизор. Возле крылечка, ведущего на террасу, стоит высоченный шест; на нем — паутина антенны; а вершины лип подрезаны, чтоб не мешали приему изображения.
Следом за домом Петровича — владенья Тимофея Манина.
До войны Тимофей работал шофером. Разъезжал на единственном в колхозе грузовике. На ней, на старенькой полуторке, уехал в первый же день войны по вызову военкомата. На фронте, где-то в окруженье, он потерял свою машину, служил и минометчиком, и сапером, был ранен, лишился руки и теперь пасет колхозное стадо.
Детей у него много, но все они, как говорится, разлетелись кто куда, в разные концы. Лет пять назад у него умерла жена, и Тимофей совсем было сбился с панталыку: пил, буянил, овец и корову свел со двора. Прошлым летом его подобрала Котька Истомина — овдовевшая в войну доярка из Селищева. Теперь они живут вдвоем. Живут тихо, мирно, безбедно. Снова обзавелись хозяйством. У них корова, подтелок, овцы, десятка два гусей.
Тимофей мужик старательный. Каждое лето он нанимает Митьку, и тот мастерит ему то сени, то террасу, то кухню. Потому Тимофеева изба похожа на корабль. С улицы по всему фасаду красуется этакое загадочное сооружение: крыльцо не крыльцо, терраса не терраса. Высоко на дубовых столбах — помост. Наверх ведут две лесенки с перильцами; подниматься по ним — все равно что всходить на капитанский мостик.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: