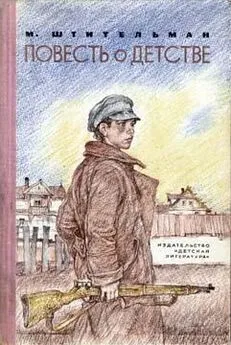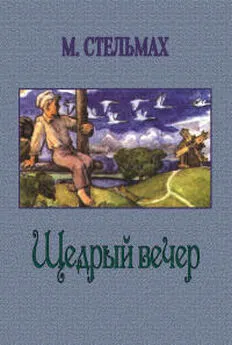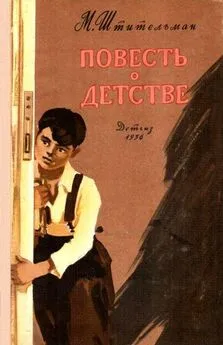Михаил Стельмах - Повести о детстве: Гуси-лебеди летят. Щедрый вечер
- Название:Повести о детстве: Гуси-лебеди летят. Щедрый вечер
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2014
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Стельмах - Повести о детстве: Гуси-лебеди летят. Щедрый вечер краткое содержание
Автобиографические повести М. Стельмаха «Гуси-лебеди летят» и «Щедрый вечер» изображают нелегкое детство мальчика Миши, у которого даже сапог не было, чтобы ходить на улицу. Но это не мешало ему чувствовать радость жизни, замечать красоту природы, быть хорошим и милосердным, уважать крестьянский труд. С большой любовью вспоминает писатель своих родных — отца-мать, деда, бабушку. Вспоминает и своих земляков — дядю Себастьяна, девушку Марьяну, девчушку Любу. Именно от них он получил первые уроки человечности, понимание прекрасного, способность к мечте, любовь к юмору и пронес их через всю жизнь.
Произведения наполнены лиризмом, местами достигают поэтичного звучания, что прекрасно передается русскоязычному читателю в талантливом переводе Любови Овсянниковой.
Повести о детстве: Гуси-лебеди летят. Щедрый вечер - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— Ну что? Так ничего и не понял? — кольнул насмешкой Петр. — Это, слышишь, того, что наука не идет без дубины. Ге!
Я упорно мотнул головой:
— Еще пойму! Это сначала трудно.
Но кто поможет мне разобраться в книжке? Я перебираю в памяти грамотеев со своей улицы, но все они от силы знают написать письмо и ждать ответа, как соловей лета. Мог бы помочь поп, но я больше не пойду к нему печь раков, до сих пор стыдно, как вспомню. К дьяку тоже не приходится соваться, потому что недавно с Петром лазил в его сад. Недаром говорят: бедному Савке нет судьбы ни на печи, ни на лавке… О, а может, добиться до головы комбеда дяди Себастьяна, который всю войну прошел, не раз был ранен, а потом партизанил в Летичевских лесах? Он же всякие бумаги принимает аж из самой Винницы! Кроме того, дядя Себастьян хорошо знает моего отца и меня узнает на улице, даже здоровается.
Вечером, приехав домой, я поставил конягу в конюшни, перескочил через ворота и, на всякий случай, с улицы, обратился к матери:
— Слышите, мне надо пойти в бедком.
— Куда, куда? — от удивления мать поворачивает ко мне так голову, чтобы слушать одним ухом.
— В бедком! — говорю с достоинством, но немного отступаю от ворот.
— Что, может, ты должен выступать перед обществом? — вдруг веселеет мать.
Я это понял как разрешение и сразу же смылся с материных глаз. Она говорит, что это делать я умею, как никто. А Петрова мать то же говорит о Петре.
Поэтому огородами, на которых еще на радость воробьям стояла конопля, я отправился в бедком, где по вечерам всегда было шумно и людно. Здесь беднота встречалась со своими надеждами, здесь она слушала ленинскую правду и не раз за нее брала в руки и русскую трехлинейку, и английские, французские, немецкие и австрийские ружья.
Очевидно, еще было рано. В помещении комбеда возился только сторож (он курил веником и трубкой-макитровкой, в которую можно всыпать горсть табака), а с краю толстоногого дворянского стола не то спал, не то дремал низкорослый бывший помощник писаря, бывший сельский староста и бывший председатель волисполкома Гавриил Шевко. Все у него было уже бывшим, даже военкомовские штаны и линялый, натянутый пружиной картуз. И только с полфунта рассыпанных повсюду веснушек держали фасон — ничуть ничем не печалились. Не было их только на кончике носа — на него кто-то накинул сетку прожилок, которые меняли цвет в зависимости от того, сколько и чего выпивал человек.
Услышав возле порога шорохи, Шевко чуть-чуть открыл узковатые косые глаза и сразу же прикрыл их морщинистыми веками, материала которых хватило бы на значительно большего мужчину.
Я до сих пор не могу забыть странное лицо дяди Шевко, который, как говорили люди, до недавнего времени весьма страдал падучей к власти. Когда Шевко был трезвым и бодрствующим, из его глаз просматривались и настороженность, и осторожность, и лукавство, а между ними проклевывался и снова где-то притаивался ум. Но стоило мужчине прикрыть глаза кожей век, как из множества ее морщин непобедимо брызгала ничем не скрытая хитрость. Но ей мало было места на веках, и она струшивалась на ноздри носа, на губы, подбородок и властно смеялась над всем и всеми. Наверное, для кино дядя Шевко был бы большой находкой. Причудливой была и Шевкова слава.
Когда в киевском цирке объявился новый правитель Украины гетман Скоропадский, когда в церквях по светлейшему зазвонили колокола, а на площадях и собраниях по мужицким шкурам засвистели немецкие и австрийские шомпола, в нашем селе никто не захотел стать старостой. Скоропадчики целый день держали на сходе людей, но от старосты отказались и богатые и бедные — мало было чести выбивать чужакам зерно, скот и деньги. Наконец рассвирепелые гетманцы сказали, что вызовут из уезда государственную стражу, а та знает, для какой части мужицкого тела выкручиваются шомпола. И тогда Шевко степенно вышел из притихший толпы и, прикрыв глаза веками, спросил хлеборобов:
— Слышали, чем оно пахнет?
— Паленым, — мрачно ответили ему.
— Если так, выбирайте меня старостой. Послужу как умею.
Сход сразу крикнул: «Хотим Шевко».
И вскоре незавидная, в кирее и лаптях, фигура дяди Шевко появилась на крыльце управы, где ему вручили печать, подушечку для нее, чернильницу, бутылку с чернилами, бумаги и прочие признаки власти. Положив все это на столе, староста сбросил оттопыренную спереди фуражку, махнул рукой — и сход притих от того чуда, что к нему впервые заговорил необычный хозяин села. А у него и голос оказался не из тех, что на многолюдье убегают в халявы, и слова захитрились, что спроста не раскумекаешь их.
Люди добрые, кхы, спасибо вам, говорил же тот, за голоса и любовь, без которых тоже не каждый обойдется. Правда, любовь бывает всякая: любил и волк кобылу, да оставил хвост и гриву. Ну, и если, говорил же тот, новая власть не очень будет накладывать, то я не буду обдирать, потому что обдирать и дурак умеет. Я думаю: светлый гетман знает, что мужик теперь ничего не имеет. Так пусть батюшка сейчас отправят молебен за мужика и нового старосту, а после молебна лавочники мне выставят сапоги, а нам двенадцать ведер самогона, ровно столько, сколько у бога было апостолов, и мы увидим, есть ли в этих ведрах дно. Правильно я, люди добрые, понимаю власть и политику?
— Правильно! — закричал, заколобродил сход, которому больше всего понравилось, что Шевко имеет понятие к мужику, и шумно поднял старосту на «ура».
Но староство Шевко имело не такой веселый конец, как начало. Когда гетманцы выехали из села, Шевко еще раз обнаружил понимание времени и власти. Это ему не забылось и после смерти. Он сразу сказал людям, что не будет из них выбивать ни зерно, ни скот, ни подати. Такое удивило даже тех отчаянных, которые на каждую власть смотрели, как на напасть:
— За это, человек добрый, теперь могут записать твою душу на вечные поминки.
Но Шевко ослушался предостережения:
— Над шкурой дрожать — человеком не жить.
— А как ты думаешь выкрутиться?
— Подожду, там будет видно. Широко, как мне кажется, раздулась эта власть, не лопнет ли, как пузырь. Ну, а пока что пусть мне с каждого дома принесут по десять фунтов зерна на угощение разных-всяких и на свой пропой.
Такая программа пришлась всем по душе. Вскоре хата Шевка была засыпана пашней, и он загулял, не жалея ни чужой бесноватовки, ни своего здоровья.
Закончилось староство Шевко тем, что из государственной стражи приехали в немецких железных черепахах гайдамаки, всыпали мужику двадцать пять шомполов в шкуру, забрали последнюю корову и свинью, чтобы не было во дворе ни писка, ни визга.
Шевко терпеливо выдержал пытки. Он знал, что над ним висела большая туча. После расправы мужчина сполз с обагренный скамейки, сам надел на себя брюки и в тот же вечер, лежа на печи, объяснял дядькам:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: