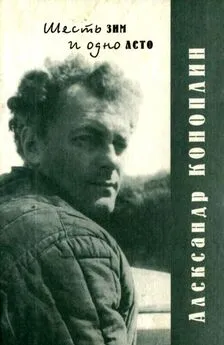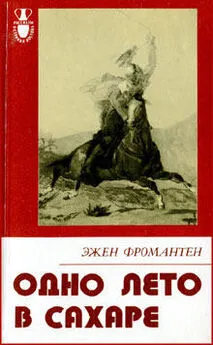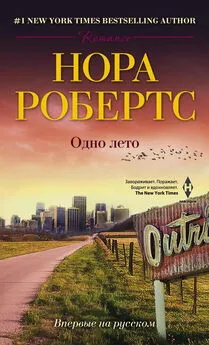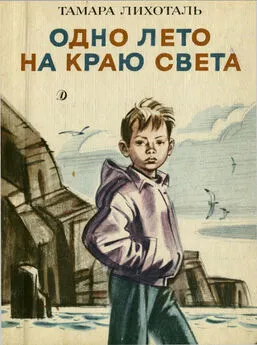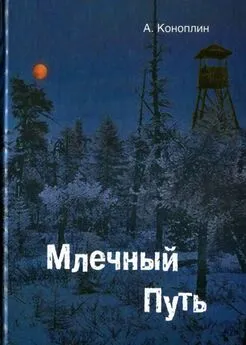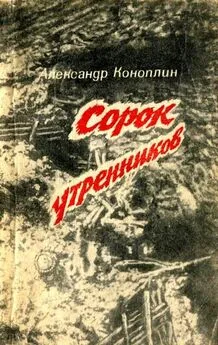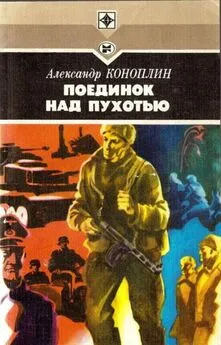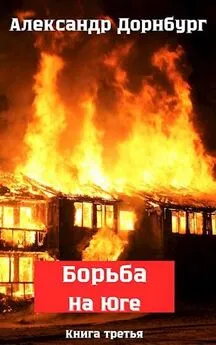Александр Коноплин - Шесть зим и одно лето
- Название:Шесть зим и одно лето
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Верхняя Волга
- Год:2001
- Город:Ярославль
- ISBN:5-7415-0577-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Коноплин - Шесть зим и одно лето краткое содержание
Роман «Шесть зим и одно лето» не столько о ГУЛАГе — о нем уже много написано — сколько о становлении личности в экстремальных условиях. Герой его Сергей Слонов, бывший фронтовик и солдат Отечественной, нашел в себе силы и мужество не сломаться. В конечном счете он победил, ибо вышел из большевистского ада не просто порядочным человеком, но еще и писателем.
В этой книге нет вымысла, все написанное выстрадано автором, а благодаря остроте сюжета читается с интересом.
Шесть зим и одно лето - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— Скажите, доктор, — спросил он, — что сейчас, в нашей прекрасной советской действительности, заставляет людей лишать себя жизни?
— И что же ты ответил? — спросила бабушка.
— А ничего. На дурацкие вопросы отвечать не умею.
Ларичев был молод и боялся смерти. Через год его арестовали, увезли в Москву и там расстреляли. Кто-то донес, что брат его матери состоял в «зеленых»…
На другое утро после ухода Бурова я нашел томик Пушкина, который он читал, и то же стихотворение, но ожидаемого благоговения не ощутил. В окно вместе с солнцем бился и кричал мальчишескими голосами морозный зимний день, в прихожей нетерпеливо топал валенками больничный кучер Ефим — мы с ним поедем за дровами для наших печек — сенбернар Мишка (по паспорту Миних Брауншвейг Резон) в доказательство того, что Ефим уже здесь, стащил у него рукавицу и принес мне, бабушка пекла нам на дорогу лепешки…
Вздохнув, я поставил Пушкина на место. Позднее не раз делал попытки вернуться к нему, однако состояние души, о котором говорил Юрий Андреевич, всё не являлось.
Но однажды я заболел ангиной. Вообще болел часто и всегда с удовольствием: никто не поднимал с постели ни свет ни заря, не гнал в школу; в комнате по такому случаю разрешали находиться моему другу Мишке; я мог читать сколько захочу; наконец, на время болезни меня поселяли в дедушкин кабинет, где зимой очень тепло и особенно уютно: нет нужды просить книгу — они все под рукой. И вот, лежа в одиночестве на диване, я опять потянулся к Пушкину, но взял на этот раз не стихи, а прозу. «Повести Белкина» я читал не раз, но чаще всего перечитывал «Капитанскую дочку». Повесть поражала меня широтой охватываемых событий при очень уплотненном тексте. Как Пушкин мог уловить ту тончайшую грань, до которой только и можно сжимать текст, — как говорила бабушка Оля, «отжимать воду» (многое в тайнах творчества она понимала), — после которой художественность исчезает, а остается сухая схема? Иногда мне казалось, что я нахожу слова, которые Пушкин выбросил в процессе доработки, иногда это был целый абзац, но, прочитав — теперь уже не пушкинскую, а свою — эту новую фразу, я убеждался, что гениальный писатель был прав. В результате таких экспериментов я однажды ощутил себя причастным к… созданию «Капитанской дочки»! Ведь не исключено, что Пушкин сначала находил, а потом выбрасывал именно эти слова и абзацы. С удивлением и страхом оторвался я от чтения и осмотрелся — не брежу ли?.. Но вокруг виднелись знакомые предметы, успокаивающе тикали часы в высоком футляре, похожем на шкаф, приятно пахло камфарным маслом. Дед мой не был охотником даже до пустяшных перемен. Изношенные кресла он не давал выбрасывать не из скупости, а вследствие привычки к ним и, отдавая в починку, настаивал, чтобы новая обивка была по возможности такого же цвета и рисунка. Родственники, в том числе и мои родители, находили это чудачеством, и я был с ними согласен, а тут вдруг в один день понял, почему и Петру Гриневу, и полковнику Бурову было очень важно вернуться в отчий дом, где все осталось без изменений, — им были важны и дороги их корни! Все остальное в жизни — ерунда. И хотя Пушкин ни словом не обмолвился по поводу обстановки в доме Гриневых, я представлял ее так, словно сам там побывал… Начиная с этого дня я читал Пушкина не иначе как в кабинете деда, на диване, в полулежачем положении, и непременно вечером. Для пущей материализации зажигал свечи, поскольку они наверняка горели в доме Гриневых и Пушкиных.
Но не только предельная сжатость текста приводила меня в восторг. Пушкин как-то умел одной короткой фразой показать всего человека, его характер, склонность к чему-либо, положение в обществе.
«…Папенька нанял для меня француза, мосье Бопре, которого выписали из Москвы вместе с годовым запасом вина и прованского масла». Тремя неполными строчками показан быт Белогорской крепости: «Все, слава богу, тихо, — отвечал казак, — только капрал Прохоров подрался в бане с Устиньей Негулиной за шайку горячей воды». Ах, если б мне когда-нибудь научиться так писать! По мере возмужания я делал все новые открытия. В школе в понимании литературы я давно перерос сверстников и писал сочинения как бы шутя, иногда стихами, за что неизменно получал «неуд» — сочинение полагалось излагать на четырех страницах, а стихи на ту же тему занимали всего полстранички…
Сам не понимая зачем, я многое тогда заучивал наизусть. Теперь, в одиночной камере, мне это здорово пригодилось. Расхаживая в узком пространстве от двери до противоположной стены, вспоминал целые абзацы и читал вслух монологи и диалоги, с удивлением сознавая, что от моих невольных добавлений — кое-что я все-таки забывал — они не всегда становятся хуже… Постепенно я начал отходить от чужих текстов и сочинять свои. Вначале они не выходили за рамки воспоминаний детства, потом стали перебиваться сюжетами прошедшей войны. Скоро я уже уверенно ходил по камере и громко беседовал то со своим другом лейтенантом, то с медсестрой Катей, то с пленным фельдфебелем. Кончилось все это тем, что меня поволокли к тюремному фельдшеру, чтобы освидетельствовать на предмет тихого помешательства. Постукав молоточком по моему колену, фельдшер уверенно заявил:
— Симулянт. Лучшее лекарство — мокрый карцер.
Господи, как же они все любят этот мокрый карцер! Самих бы туда на недельку…
Кроме литературы меня спасали от настоящего сумасшествия очные ставки. И хотя перепуганные сослуживцы наперебой «уличали» меня, послушно повторяя за следователем придуманную им чепуху, я с удовольствием смотрел на их загорелые лица и ощущал себя солдатом…
Огорчали меня лишь подельники. Уж слишком трагично переносили они всю эту нелепую историю, в которую я их втянул. Следователь сумел убедить Полосина и Шевченко, что они оказались жертвами очень коварного врага — бывшего друга — и что я завербован иностранной разведкой.
Убедить в этом Денисова следователю не удалось.
— Хрен с ним, Серега, — сказал он на очной ставке, — пускай пишут что хотят, лишь бы ребра не переломали. А Сибири не бойся, там тоже люди живут.
Иначе вел себя Шевченко. Старый друг взвалил на меня едва ли не самое серьезное обвинение — не считая, конечно, союза СДПШ. На одном из допросов он показал, что однажды, после концерта художественной самодеятельности, где я выступал клоуном, я спел песенку: «Расскажи, расскажи, бродяга, чей ты родом, откуда ты» — и при этом указал на портрет товарища Сталина, который висел позади меня на стене. Наблюдавший за следствием подполковник Синяк сказал, что, даже если отпадет обвинение в организации контрреволюционного союза, этого факта хватит, чтобы осудить меня на десять лет ИТЛ.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: