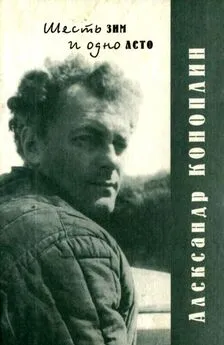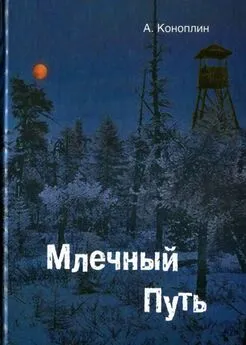Александр Коноплин - Шесть зим и одно лето
- Название:Шесть зим и одно лето
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Верхняя Волга
- Год:2001
- Город:Ярославль
- ISBN:5-7415-0577-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Коноплин - Шесть зим и одно лето краткое содержание
Роман «Шесть зим и одно лето» не столько о ГУЛАГе — о нем уже много написано — сколько о становлении личности в экстремальных условиях. Герой его Сергей Слонов, бывший фронтовик и солдат Отечественной, нашел в себе силы и мужество не сломаться. В конечном счете он победил, ибо вышел из большевистского ада не просто порядочным человеком, но еще и писателем.
В этой книге нет вымысла, все написанное выстрадано автором, а благодаря остроте сюжета читается с интересом.
Шесть зим и одно лето - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— Неужели приказ?
— Ну, приказ не приказ, а так… Собрание в Кремлевском полку провели. Разъяснили, дескать, не гоже вам, защитникам революционного правительства, связывать семейную жизнь с классово чуждыми элементами. Есть, мол, такие сведения, что эти дамочки-мадамочки только и ждут, как бы всадить вам нож в спину.
— Тебе, Федя?!
— Дурак ты, — говорит он беззлобно, — рази дело во мне. Короче, кончили мы с этим. Стали своих в столицу привозить, деревенских, они надежнее.
— Ну, а если у интеллигентной женщины любовь к тебе была?
— Любовь тоже можно к стенке… Да и не за любовь они к нам липли. Мне на том собрании глаза раскрыли. Из-за пайка! Голодно было в Москве, а они непривычные. Известно, буржуйки.
Он задремал. За окном всё не кончалась осенняя ночь. Фонарь на стене раскачивался, только теперь на него сверху, с невидимого неба, опускались белые хлопья. Зима посылала нам свой суровый привет.
Я вспомнил, как в войну, в такую же, как эта, темную ночь, сидели мы с бабушкой возле «буржуйки» и ждали маму. «Буржуйка» была крохотной — на большую, которые делали в мастерской на улице Карла Маркса, у нас не хватило необходимых двух килограммов хлеба. Нормальную печку топили дровами, нашу — мусором и щепками. Наверное, поэтому мы мерзли.
Поздно ночью или даже к утру приходила мать. Она появлялась неслышно, и я, задремав, не всегда ее встречал.
— Опять ничего не ела? — спрашивала она строго. — Ты пойми: мне с парнем возиться некогда, у меня таких, как он, полторы тысячи, а завтра, может, еще столько же привезут.
Она работала инспектором районо, и, как только в наш город стали прибывать эвакуированные детские Дома из Ленинграда, на нее возложили их размещение по деревням, обеспечение питанием, школами. Хуже всего дело обстояло с транспортом. Здоровых лошадей забрала армия, машин в селах не было и до войны, и детей от станции до села везли на тракторных прицепах или вели пешком. Истощенные голодом ребятишки, протопав честно километра два, садились на землю, и тогда мать и наиболее сильные воспитательницы несли их на руках. Бывало, мать не возвращалась дня три-четыре, и тогда бабушка шла на проходную льнозавода и, попросив разрешения у дежурной, набирала какой-то номер, вкрадчиво говорила в трубку:
— Извините, пожалуйста, Иван Гаврилович, это вас Слонова беспокоит. Ваша подчиненная Анна Петровна до сих пор не вернулась из командировки. Не случилось ли чего с ней? — Выслушав короткий ответ, вторично извинялась и бережно вешала трубку. — Слава богу, жива она. В Неверове ночует, в детдоме. Управится с делами и вернется.
Моя мать была ярой комсомолкой двадцатых годов, фанатично преданной идеям коммунизма, готовой в любую минуту отдать жизнь за мировую революцию. Начавшаяся Отечественная война с ее проблемами отдалила поднебесные цели, заменив их земными, но не смогла до конца развеять революционную романтику; всё, что она делала, — делала ради великого будущего и призывала к этому меня.
— Которые в советскую власть сильно верили, переживали, — словно подслушав мои мысли, говорит проснувшийся Ёлкин. Он чему-то улыбается. — Один профессор, помню, все доказывал, что его арестовали случайно и вот-вот выпустят! Чудак! С Лубянки никто на волю не уходил. А другой, такой же чокнутый, уговаривал передать письмо товарищу Сталину. Он-де его лично знает.
— И ты передал?
— Не положено. Да и ни к чему, — он снова улыбается.
Мне неприятна его улыбка, но обнаружить это нельзя — обидится и замкнется. Такое уже было не раз, правда, с другими.
— Интеллигенты всегда так — мельтешатся. Военные — те по-другому. Хотя тоже не все. Напарник мне рассказывал: привел одного такого на допрос, он, как кровь на полу увидел, так в беспамятство и шлепнулся. А в большом чине был. Тоже, видать, из интеллигентных. Да их у нас и за людей-то не считали. Одно слово — белая кость, а она, белая-то, хлипкая. Не в пример которые из крестьян. Командарма Блюхера хорошо помню. Лично на допросы водил. Этот в беспамятство не впадал. А уж допрашивали… По первой категории!
— Били?
— Били — не то слово. — Ёлкин больше не улыбается, взгляд его суров, брови нахмурены. — Тебе и в страшном сне не приснится, что с ним делали, а вот, поди ж ты, выдержал…
— Освободили?! — ахнул я.
Ёлкин досадливо повел плечом.
— Про то разговору нет. Не подписал он. Понял? Все подписывали, а он не подписал.
Вот в чем дело! Значит, практика готовых протоколов придумана не Кишкиным. Между прочим, я артачился, не подписывал готовых протоколов вовсе не из страха, а из озорства, ибо к тому времени знал точно: даже настоящих шпионов не расстреливают, а обменивают на своих, липовым же дают срок и отправляют в лагерь. Эти сведения мне отстукал сосед по одиночке. Он же предсказал: дадут десятку и отправят в ИТЛ — мы нужны советской власти живыми.
— Токо проку от евонной стойкости никакой, — говорит Федор.
— Расстреляли?
Ёлкин кивнул.
— И ведь что обидно: чуть было не освободили.
— Ты же говорил…
— Говорил. А его вот едва не освободили, потому как начисто невиновен и не подписал. Так и следователь сказал. Сообщил, значит, по инстанции.
— Послушай, Федор, но ведь были какие-то свидетели, факты…
— Свидетели, конешно, были — у кого их нет. На кого хошь чего хошь покажут. А фактов не было. Да и не искали тогда факты. Это теперь ищут, а тогда сам на себя наговорил и — порядок: тащут в трибунал. А как не наговоришь, ежели тебе гвозди под ногти забивают али суставы выворачивают? Факты… Кто там чего искал! Не до того. Торопились очень… А ты не перебивай!
— Не буду. Дальше-то что?
— Дальше начали передавать по инстанции. Дошло до Сталина. Все в точности доложили. Сталин пососал свою трубочку и говорит: «Если всё так, как вы говорите, то маршала Блюхера надо випускать. Стойкий оказался коммунист, нам такие нужны». Ну, конешно, тут же нарочный в тюрьму — генерал, я думаю. Предъявил начальнику тюрьмы бумаги — все по форме. Привели Блюхера. Только генерал хотел объявить ему великую радость, глядь, а у командарма глаз вытек!
— Как вытек?
— Обнаковенно. И не завязан ничем. Знать, прямо с допроса. Генерал оказался тертый: бумагу ту — в карман, с командармом потолковал о том о сем, велел надеяться, соврал, что дело его пересматривать будут, и скорехонько уехал. Прямо к Сталину. Тот выслушал, опять свою трубочку раскурил и говорит: «Да, нельзя випускать». Только эти три слова и сказал, а жизнь маршала в тот же день оборвалась.
Я был потрясен. О Василии Константиновиче Блюхере в нашей семье говорили как о хорошем знакомом — с ним служил брат моей матери. Однажды и мне довелось его видеть и даже сидеть за одним столом у нас на даче. Было это во время маневров Московского военного округа в городе Вязники, где мы тогда жили.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: