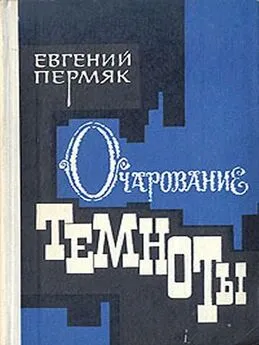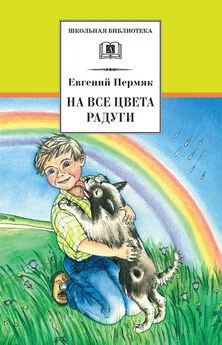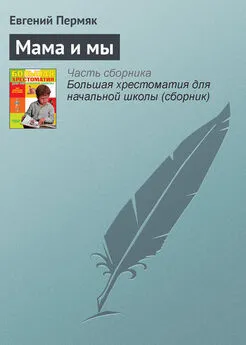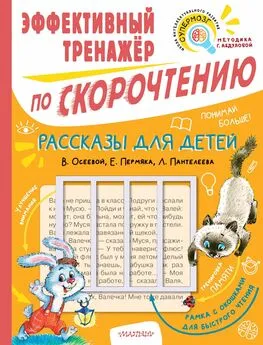Евгений Пермяк - Очарование темноты
- Название:Очарование темноты
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советский писатель
- Год:1977
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Евгений Пермяк - Очарование темноты краткое содержание
Действие романа Евгения Пермяка происходит в начале нашего века на Урале. Одним из главных героев этого повествования является молодой, предприимчивый фабрикант - миллионер Платон Акинфин.Одержимый идеями умиротворения классовых противоречий, он увлекате за собой сторонников и сподвижников, поверивших в "гармоническое сотрудничество" фабрикантов и рабочих.
Очарование темноты - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Так и сгиб без отпевания, без могильного камня старший брат Молохо1В. Безутешно рыдали младшие братья при всем честном народе. А без народа побаиваться друг друга начали. И не зря побаивались.
Когда грех совершил один человек, он один и мается с ним до смертного часа. А потом с собой уносит. Когда же двое в одном грехе живут, то каждому думается, что, ежели какой-то из двух языков сболтнет по пьяному доверию или жене не то слово обронит, тогда обоим верная каторга.
Так вот они боялись друг дружки года с три. А на четвертый год невмоготу стало в боязни жить. А как боязнь избыть?
Разъехаться разве что? А куда? Как ни велик мир, а в нем не затеряешься. Везде сыщут. Да и каково в чужой державе жить?
Разъезд возможен только один. Только один. Так они и порешили. Не вместе так порешили, а порознь. Средний брат желал на этом свете остаться, а младшего на тот переселить. Младший того же хотел для среднего.
А как?
Ни тому, ни другому нелегко второй грех брать на себя. Рука не подымется. А если и подымется, дрогнуть может. Брат ведь. Вдвоем-то одного легче было. А тут один одного. Страшно.
Опять думать стали. Порознь. Все перебрали. Ничего не нашлось, что бы не с глазу на глаз — и концы в воду. А потом одному из них, младшему, Митрофану, совсем негаданно корень жизни, что женьшенем зовется, смерть подсказал. Средний брат Евсей пользовал его. Сильно ободрял он его. У китайцев корень брал. По сотне плачивал. А на эту зиму большой корень купил. Купил и на сохранность в надежное место спрятал. Про это место только младший, Митрофан, знал. Другой раз для себя малость отламывал. Для пробы. И больше для баловства.
И вдруг, Вениамин Викторович, средний брат Евсей, никогда не знавший хвори, скончался одночасно. Причину смерти сразу же установили, а где причинщика искать, который продал Евсею ядовитый корень, никому не ведомо. Никто этого женьшенщика не видел, не слыхал.
Младший брат, горюя об Евсее, сорок дней молился и постился, а потом сам занемог. Братья стали по ночам «то душить. И сказывают, что Митрофан умер от удушья, а платину все же успел частью продать, часть перепрятать и завещать единственному сыну Василию. Об этом знала Митрофанова жена, и будто бы она перед кончиной на исповеди призналась попу в прегрешениях трех братьев. И надо думать, что через попа стало ведомо, откуда Василий Митрофанович оказался богат. А как он стал еще богаче, если вам желательно об этом, Вениамин Викторович, записать, то поведаю про это после небольшого передыха.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
— Некий, такой-сякой, безвестный молодой барон Котторжан за какие-то такие заслуги был жалован царицей рудными землями в наших местах и заемными деньгами из царской казны, для постройки медных и доменных печей.
Получив земли, леса, речки, заемную казну, он должен был поставлять железо и медь, для чего ему были дадены люди знающие и умелые. Они-то и занялись заводами, а сам Котторжан порешил строить себе такое каменное чудо, какого и не видывали. Сам указывал, сам показывал, как и что, а до этого место нашел, на озере. Небольшое и тогда было это озерцо. Посреди этого озерца был скалистый островок. Чуть больше полудесятины. Вот на нем-то и порешил барон свой дом-замок поднять.
Тьму-тьмущую народу нагнал. И чужеземцев раздобыл. Деньги не свои. Не хватит — еще попризаймет. Года с три, видно, громоздили ему невесть какую громадину. Церковь не церковь, мечеть не мечеть, на тюрьму тоже не похоже, а она, к слову говоря, тоже там была. Чужеземные мастера ему дело советуют, а он свою прихоть тешит. И рад-радешенек своей каменной уродине. Нутро-то ее, не говоря напраслину, на дворцовый лад было. И парчовые палаты, и расписные. Потолки сводчатые, полы где как. И каменно-мраморные, и узорчатые, из разного дерева. Дорогу от берега к воротам замка насыпал. А ворота не как у всех. Откидные, на цепях.
Заводы тоже приспели в свой срок. И хорошо дело пошло. Руды богатые, лес даровой, работный люд того даровее. Заточенных ему пригнали. Их только кормить надо было, а тюрьма готовая. Без хлопот для казны. Поселяй знай в нее, сколько нар влезет. А когда заточенным вовсе негде спать стало, над нарами другие нары, как бы полати, понастроили. А случалось и в очередь спали. Тех, что днем на работу гоняют — ночью спят, те, что ночью работают, спят днем. Приноровились круглые сутки кровь пить.
И жил бы так да жил барон, прозванный «Каторжаном», при заводах до старости, если б не ожаднел до бесчувствия. Прибытки лопатами греб, в чужеземные города переплавлял, а казне по заемной повинности и самой малости не исполнял. Отнекивался. Пождать, потерпеть просил. И терпели сколько-то. Ждали. А потом разом и терпение, и жданы кончились. Как ножом отрезались. На престол другая величественница села, а за старое царицыно баловство в ней злость взыграла. Про это в бумагах тоже не сказывалось. Знаемо только то — велено было барона конвойно в Питер пригнать, а заводам указано казенными быть.
Дёру дал барон, и ни слуху ни духу с той поры о нем не было. Осталось только прозвище его — Каторжан. Так и дом Каторжановым замком звался. А потом строго-настрого, под страхом поротым быть, велели забыть это прозвание. Барским домом замок приказано было звать. Так и зовут, а про себя старое клеймо помнят.
Недолго Каторжановы печи казенными подымили. Казенные управители тоже умели деньги считать, не обижая себя. Довели дело до полного конца. До такого конца, что и продать Каторжановы печи было некому. Не находилось таких. Долго не находилось. Совсем отчаялись было, да объявился человек, который искал, как лучше дать ход своим деньгам. И был им не кто иной, как наш Василий Митрофанович Молохов. Ему тогда лет двадцать с чем-то было. Хороший подсказчик к нему прибыл. Амосов Николай Поликарпович. Ученый и золотой человек. В одних годах с Василием был. И рвался этот Амосов к большому делу, а держали его при казенных заводах на малых делах. При печах. Вот он-то и задумал вернуть жизнь баронским печам.
Году не прошло, как одна за другой домны дышать начали. А потом за медь взялись. И опять фарт. Василий даже пальцем не шевельнул для того, чтобы чугун и медь золотой рекой потекли. Был купцом — заводчиком стал. С вывеской: «Заводы Василия Молохова».
И на чушках, на слитках его имя значится. Не скупился Молохов смолоду, хорошо платил Амосову и доверял ему во всем. Это потом Молохов сатанеть начал, а тогда все к нему льнули. Скажем, не к нему, а к Амосову. Амосов был хоть и не из простых, а рабочий люд почитал. Самые отборные у него работали.
Самое дешевое у нас железо было демидовское, а молоховское стало еще дешевле. Заброшенные дома в Каторжановке расколачивать начали, новые дома стали рубить. По заводу и рабочее поселение переназвали — Молоховкой. И сам Молохов вздумал Каторжанский замок раззамочить. Там все как было, так и осталось. Только от пыли да от крыс надо было избавиться. И это Амосов сделал, а потом и сам замок малость очеловечил. Посшибал с него ненадобную башенную несусветицу и всякое такое, что дурак Каторжан для форсу приляпывал. Всего замка он перестроить не мог, тогда бы заново строить пришлось, а что-то мог — сделал.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: