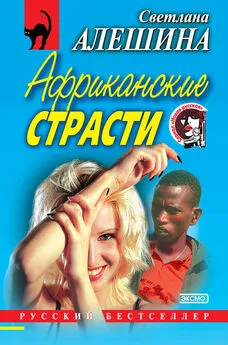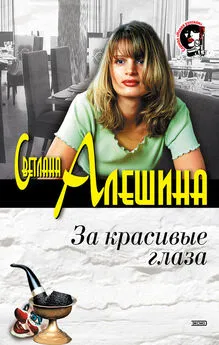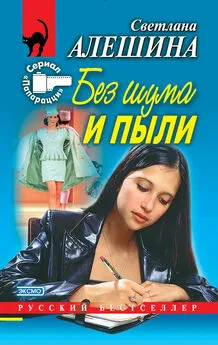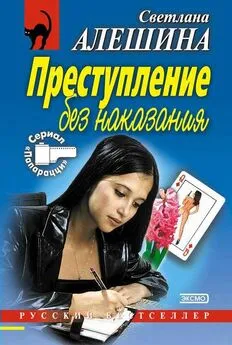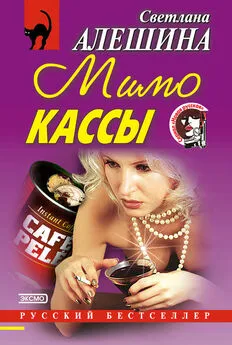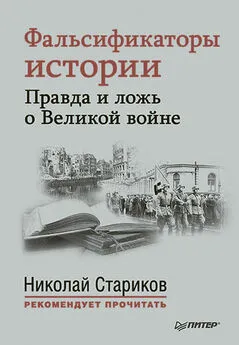Николай Алешин - На великом стоянии [сборник]
- Название:На великом стоянии [сборник]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:1975
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Николай Алешин - На великом стоянии [сборник] краткое содержание
Почти все произведения, составившие сборник, ранее издавались и представляют собой своеобразный итог народного по характеру творчества самобытного русского писателя.
На великом стоянии [сборник] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— Машист, это верно, — высказала она веселое порицание. — Все укоротил, как приезжал славить: и оздравное провозглашенье, и что положено вычитать в благоденствие дому сему. Судя по твоим словам, не придерживается устава. Но внушенье‑то тебе сделал толково!..
— Подтыкать‑то все горазды! — обиделась Наталья и без дальнейших наказов «соседке» толкнулась в дверь и вышла из избы. Она подосадовала на себя, что зря разоткровенничалась. «Ишь ты! — злилась на «соседку». — И по ней, я не так живу. Хвалится пенсией да почестью. Думает, больно дорого кому…»
Поминальник Бахарихи, попавший Наталье под руку, как только она сунулась в карман жакетки за платком, чтобы обтереть распылавшееся от возбуждения лицо, вызвал у нее ощущение брезгливости. Вместе с ним нащупалась и захваченная ею старая телеграмма. И хотя телеграмма не казалась, подобно поминальнику, отвратной, но оба эти предмета одинаково пуще усугубляли мятущийся дух Натальи, внушая ей в совокупности с помыслами всю нелепость ее бегства из дому по причине бурного всколыха совести, стыда, уязвленного самолюбия и вконец захлестнувшей ее лжи. Она безотчетно, лишь из потребности движения, спешила из деревни к большаку через нагорье, с которого все‑таки взглянула на выгон в пойме реки: Чернуха гуляла там вместе с немногими коровами. Вспомнила, что забыла наказать Бахарихе отдоить Чернуху в полдень.
Дорога пролегла напрямик через обширное поле с начавшим вызревать блекло‑желтым овсом. Увлажненные росой метелочки овса еще не прогрелись от солнца, и от поля отдавало прохладой.
Наталья сознавала несуразность своей затеи с телеграммой и отъездом в Ковров и понимала, что это не выход из создавшегося для нее неприятного положения, но неприязнь ко всем, «гораздым подтыкать» ее за отщепенство от своих деревенских и отлынивание от их насущных колхозных забот и дел, знай гнала и гнала ее. Она за короткое время отмахала в нервной взвинченности с полкилометра от деревни до большака и остановилась на стыке дороги с ним, подобно витязю на распутье. Хотя перед нею не было камня с роковыми письменами, но поминальник и телеграмма в кармане невольно побудили ее оглядеться на обе стороны по большаку. Направо, за синевшим в отдалении и чуть вздрагивающим от марева лесом, белела и тоже зыбилась от марева верхушка колокольни церкви «Спас на пеньях», куда Наталья ходила почти каждое воскресенье — отнюдь не из приверженности к вере, а для видимости, чтобы прослыть благочестиво степенной среди своих сверстниц и более пожилых, которым и по праздникам впору было управляться по дому, чем ходить за обедню. А налево, между перелесками, блестели под солнцем шиферные крыши одинаково, как и церковь, отдаленного отсюда Ивакина, через которое следовал по главному тракту из райцентра в город автобус. Пока Наталья озиралась туда и сюда, в ней начался спад возбуждения, который сразу завершился расслабленностью, безразличием и душевной опустошенностью.
За грядами леса впереди рокотал на ржаном поле комбайн. Сверху, из бездонной синевы неба, реактивный самолет ронял мягкий гром. И будто спеша подстать к ним, в деревне позади торопно застрелял мотор трактора: бригадир, должно быть, не утерпел, чтобы не опробовать его. Наталья вздрогнула и оглянулась, точно пронизанная этой отдаленной пальбой. День вступал в свои трудовые права. Теперь он уж не нес в эту пору той изнурительной ломки горбом с утра и дотемна, что подлинно была страдой; теперь можно было без особых усилий управиться в сжатые сроки. Наталья из года в год замечала, как сокращались эти сроки, но сама оставалась безучастной к тому. А жизнь неуклонно требовала отдачи. В этом она по‑прежнему оставалась неизменной и побуждала держаться строго.
Золотой пирог
Рассказ
В тот год зима была малоснежная. С морозов в поле, где выдуло, землю рвало. На озерах при подледном лове приходилось прорубать лунки не только вприклонку, а и с присеста на коленки: едва хватало пешни, пока дотюкаешься до воды. В жизнь не упомню льда такой толщины. Замор рыбы начался рано.
Первым через протоку из Каменника пошел в Великое озеро и в Узоксу на свежую воду снеток, пошел в самую прибыльную для Прицепы пору — на масленицу. Прицепа поставил в протоке рукав с такими мелкими ячейками — пиявке не проскользнуть, а не то что рыбешке. Сам сутками не спал да лядел на стуже и нам отдыху не давал. Торопил, матерился и сулил наподзадор: «Урвем, пока время дорого, по чашке поставлю!»
И верно, зевать не приходилось; в городе на базаре и в лавке Скалозубова с первого дня масленицы началась рвачка на снетка. Поджаренный с луком, он — наилучшая начинка в пирожки. Объеденье!
Помню, в понедельник мы с утра взяли за несколько выемок целых три воза снетка. Прицепа ошалел от удачи и жадности, горячку порет:
— Управились? Погружайте рукав живее да открывайте створку!
Я ему в упреждение:
— Погрузить необходимо, но створку пока не надо трогать: сеть вся в склизи и обледенела. Если не обождем, когда обмоется да отмякнет, то от напора лопнет.
Прицепа не стал перечить, четверых отослал с подводами в Шунгу и наказал им вернуться к вечернему лову, а меня оставил в охотку себе.
— Идем, — говорит, — в чайную к папуасам: погреемся.
Так Прицепа звал веженских… по журналу «Всемирное обозрение». Я уже вам говорил: он в гроше был прижимист, а на журнал тратился, чтобы знали в селе, что он всех умственней. Он приносил и показывал нам этот журнал, когда мы весной дожидались у загрузы на Узоксе подхода главной рыбы. Нагляделись на картинках, как похожи хижины тех дикарей на сараи да бани веженские: точь‑в‑точь на курьих ножках. Дикари‑то гнездились на сваях, чтобы зверям было недоступно, а веженских‑то, да и всех, кто живет в той низине, очень топит в половодье. Но, сказать не в смех, мы завидовали папуасам‑то — я про веженских: справно жили. Пашни у них было с пятачок, зато укосов — ворону не облететь без роздыху. Сажали они один хмель, тем же способом, как виноград, только под каждый корень ставили тычину с пароходную мачту. С ила после разлива да с навозной подстилки обовьется хмель по тычине и, мало, перекроет ее, еще потянется меняться шапкой со своим соседним побегом. В цвету тот хмель не особо запашист, а побудь‑ка полчасика — выйдешь из него, не чуя весу в себе, точно из казенки. Ветер не страшен хмельнику: венцом круг него дубы стоят, как парни в хороводе. Каждому дереву лет по триста и больше.
Хмель сбывали скупщикам, а те развозили его по городам, где пивные заводы. Но веженские не так выручались на хмелю, как на сене. Уму непостижимо, как они делили прошитые кустами пожни и не обкашивали друг дружку. Косить начинали с Иванова дня. В иное сырое лето корпели в лугах до самых заморозков. Стога метали на козлы: не случился бы осенью паводок. Продавали лишнее сено у себя. С утра поджидали покупателей в чайной. К ним приезжали из Костромы, от Спас‑Среды и из многих мест под Ярославлем. Покупали любое сено с клевером, с калганом, с гороховиной, со столбунцом. А уж с осокой да лежжеем нипочем возьмешь для жорой коровы. Хорошо жили, хоть и скучились их дома на малой горбушине, как тли на бородавке.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Николай Алешин - На великом стоянии [сборник]](/books/588479/nikolaj-aleshin-na-velikom-stoyanii-sbornik.webp)