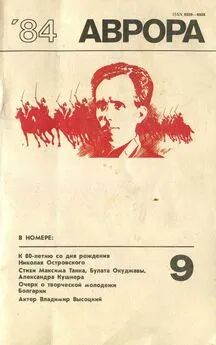Виктория Беломлинская - Обитатели
- Название:Обитатели
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Виктория Беломлинская - Обитатели краткое содержание
Обитатели - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
«В гастрономе цыплят по рубь семьдесят выбросили…» или: «В железнодорожном дают колбасу…» — он как бы хочет бескорыстно полезным быть, но это не так — он скажет и не уходит, а стоит и смотрит — ждет, чтобы с ним заговорили. Если заговорят, он тут же всю свою жизнь расскажет: как он во время войны в Челябинске самым большим продуктовым магазином заведовал.
— Вы знаете, — говорит он, — был только один человек, которому я подчинялся — это был директор эвакуированного Кировского завода еврей Зальцман. А он подчинялся только Сталину! И он — этот Зальцман был человек неограниченной власти! Однажды, он вызывает меня и говорит: «Ефим, почему у моих рабочих нет сахара?» А я говорю: «Бог мой, это ж война! У других и хлеба нет, а у меня люди получают…»
— Нет, Ефим, мои люди делают танки — у них должен быть чай с сахаром! Или пеняй на себя…
Ладно. Я взял два чемодана — один маленький со своими вещичками, а другой большой — с мануфактурой: драп, шивьет, каверкот — сел на поезд и поехал прямо на сахарный завод. А там у директора уже сидят трое и все с бумагами. У меня никаких бумаг. Директор говорит: у меня на всех нет, я не могу Москву удовлетворить. Я вижу: это не разговор. А он все время смотрит на мой чемодан. Я молчу. Тогда он кое–как заканчивает с товарищами, а меня спрашивает: «Вы где остановились?» Я говорю: «Пока нигде». Хорошо: через полчаса мы были у него дома. Кроме отрезов у меня еще кое–что было: ну коньячок, ну икорка… А вы знаете женщин?
Что стало с его женой, когда я открыл чемодан: крепсатенчик–крепдешинчик, боже ты мой!? Одним словом, чтоб вас не задерживать: пятьсот тонн сахару я получил и Зальцман меня благодарил. Да, это была война… Что вы говорите? А? Да, у меня была броня. Всю войну. Причем, когда война началась, все мои были в Кишиневе и немцы их всех расстреляли. Тогда я хотел пойти и отомстить.
Я подал заявление, а тут все стало разворачиваться и в гастрономе тоже. И тут как раз меня вызывают в воен- комат. Я положил в портфель колбаски, хорошей рыбки, так, на всякий случай и пошел. Уже прохожу комиссию, вдруг открывается дверь и входит полковник — фамилия его была Сашко — я как сейчас помню:
— Ты что здесь делаешь?! Хочешь, чтоб мне Зальцман за тебя голову оторвал? Давай кончай и заходи ко мне. Ну, я зашел, мы с ним хорошо посидели и я пошел домой. Вот так получилось несправедливо…
Что–то перепуталось в мозгу старика и ему действи- тельно кажется, что с ним приключилась какая–то несправедливость и кто–то в ней виноват: он ждет сочув- ствия и понимания…
Серафиму, вдову скрипача, он узнал еще в Челябинске, куда она была эвакуирована с мужем. Тогда она была не то, что теперь: волосы — это были волосы, а не перекрашенные патлы; фигура — это была фигура, а не то, что теперь — теперь это ваза горлышком вниз: ноги тонкие, зада нет, зато живот и толстая круглая спина.
А когда–то в этой вазе стояли цветы! А сколько он передарил ей бриллиантов? Теперь даже не узнаешь, где они. Но что ему было делать? Когда кончилась война и Симочка с мужем вернулись в Ленинград, он поехал за ней — у него никого не было в целом свете — только она. В крупные фигуры в ленинградском торговом мире он не вышел — другие времена пошли — но кое–что у него еще водилось, и Симочка была ему рада. А теперь возит его с собой на дачу только потому, что на двоих получается дешевле комната — теперь они деньги считают врозь.
Теперь, когда у него только и осталось, что пенсия. И она каждый раз устраивает скандал из–за сдачи: «Я тебе дала рубль: масло — тридцать шесть копеек, сыр сто грамм — тридцать копеек, батон — тринадцать — это семьдесят девять копеек, а где еще двадцать одна?» А он не знает, ему кажется, что он отдал — у него их нет. Стыдно перед соседями, у него делается от этого сердечный приступ. А она кричит: «Ты бы еще больше жрал! Если бы я съела столько оладий, у меня тоже сделался бы сердечный приступ!» Черта с два, она здоровая, как лошадь.
И даже Эда удивляется, зачем эти старые люди живут вместе, если они и чайку вечером не могут попить ладом. Серафима по–старушечьи копит всякую ерунду: пакетики из–под молока, коробочки от плавленых сыр- ков, баночки и бутылочки от лекарств. «Ты когда–нибудь выбросишь это дерьмо? — спрашивает он ее. — Или ты повезешь это с собой в Ленинград?» И она немедленно бойко откликается: «Если я такое дерьмо, как ты, повезу с собой в Ленинград, так уж это наверное…» — и начинается длинная перебранка на весь вечер, хорошо слышная мне через фанерную стену.
Я живу в Нинкиной комнате и, по правде сказать, если бы моя жизнь, также, как жизнь других обитателей этого дома, была на виду — они так же не поняли бы ее смысла, как я силюсь и не понимаю смысла их бедных жизней; а если бы вдруг поняли — вот уж посмеялись бы надо мной вдоволь, а может быть, ужаснулись бы и пожалели меня не меньше, чем я их. С трудом превоз- могая себя, я невнимательно, зато с чувством постоянной вины, слежу за ростом моей дочери, позволяя ей болтаться во дворе с сопливыми и желудочными Сашкой и Ленкой, только чтобы высвободить время и склониться над стопкой бумаги.
Я пишу, выколупывая из сердца слова, как из плохо расколотого грецкого ореха выколупывают полезные и вкусные кусочки мякоти — с трудом и наслаждением. Но сколько бы я не писала, рассказы мои никому не нужны — редакции их не берут и ничего, кроме муки, они мне не приносят, заражая меня тоской и болью моих героев — но мука эта нестерпима только потом, когда рассказ уже закончен, когда отхлынет волна горячей радости труда. А в преддверии нового рассказа я сильно напоминаю себе алкоголика — от того, наверное, мне так легко понять входящего к нам на кухню по вечерам Игорька.
Правда, ему хуже, чем алкоголику, он чифирщик, хотя и от водки не откажется, но его организм никогда не знает ни пресыщения, ни покоя. Чифиря, чем больше пьешь, тем больше нужно. Он дергается, корчит рожи, обнажая при этом желтые распухшие десны с торчащими огрызками зубов. Один глаз у него беспрестанно подмигивает, а другой по- бешеному круглится. Чифирь он себе варит сам в поллитровой алюминиевой кружке, в которую ссыпает полторы–две пачки чая, и долго кипятит на газе.
Но иногда он доходит до того, что руки прыгают и кружку до газа не донести — тогда он зовет меня, садится прямо у порога на пол и ждет. Едва пригубив из кружки, начинает хмыкать, хихикать по–дурацки, шумно глотать слюну, и над расхлобыстанным воротником грязной навыпуск рубахи начинает туда–сюда ходить его острый голодный кадык. Кожа на лице у него не красная, как у алкоголиков, а желтая, испитая и весь он, как начифирится, становится крученый–верченый.
Ни Эдка, ни Нинка брату никогда в пачке чая не отказывают, даже специально припасают и причин для того не одна. Во–первых, бесполезно, да и опасно отказывать, а во–вторых, обе они люто ненавидят его жену Валюшу и накачивают его ей назло. Есть еще и третья причина, но она потайная, совсем бессознательная и связана с последствиями. А эти сами по себе, и тут все дело заключается в том, что и Эда и Нинка еще больше, чем ненавидят, боятся Валюшу, и единственно, в чем решаются проявить свое отношение к ней — так это в том, что всегда потрафляют брату.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: