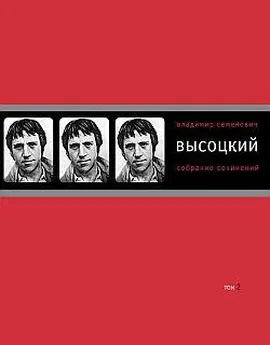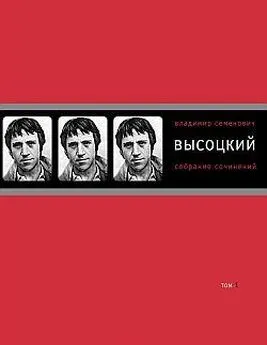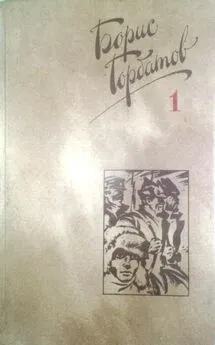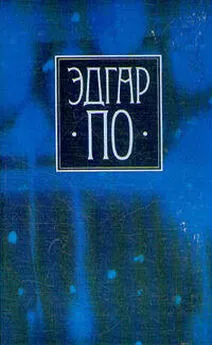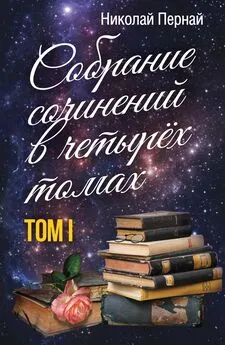Николай Погодин - Собрание сочинений в четырех томах. Том 4.
- Название:Собрание сочинений в четырех томах. Том 4.
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Художественная литература
- Год:1973
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Николай Погодин - Собрание сочинений в четырех томах. Том 4. краткое содержание
В завершающий Собрание сочинений Н. Погодина том вошли его публицистические произведения по вопросам литературы и драматургии, написанные преимущественно в последнее десятилетие жизни писателя, а также роман «Янтарное ожерелье» о молодых людях, наших современниках.
Собрание сочинений в четырех томах. Том 4. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Я помню первые спектакли Юрия Завадского в каком–то подвале на Сретенке, помню удивительный «Разбег» — спектакль, поставленный Николаем Охлопковым по газетным очеркам Владимира Ставского, теперь я смотрю первую пробу почерка ефремовской студии в розовской пьесе, и все эти начинания — разные, далекие друг от друга по времени — определяют высокое начало чистой мечты.
Почему с нашими художниками–новаторами не случилось и не может случиться того, что так часто и так трагически случается с очень талантливыми художниками, с их начинаниями на Западе? Ранний упадок, беспредметность, манерничанье и, наконец, решительный и смертельный разлад с жизнью…
Да потому, прежде всего, что мы люди нового типа. Сколько искусственных громов ни гремело и сколько бенгальских молний ни летало над Николаем Охлопковым, но он был, есть и остается коммунистическим художником. Потому, очевидно, и громовержцы не хотели до конца отринуть театр, который создавал Охлопков и будет создавать всю жизнь своей мятущейся и неуемной страстью.
Каждый из театров хотел бы сделаться первой юдолью социалистического реализма, но не каждый театр есть театр, возглавляющий сценическое направление. Театр Охлопкова есть направление. Малый театр есть направление… Всех перечислять не стану, тут нужны научные доказательства и формулы. Мы можем спорить с утверждением Охлопкова о том, что его направление определяет метод социалистического реализма, но в том, что элементы этого реализма в его театре налицо, — спорить нельзя.
И споры наши рассудит время в своем ареопаге будущего, но как бы оно там ни рассудило, единственное, что оно, несомненно, скажет о наших художниках сцены первого сорокалетия, что это были революционеры, новаторы, люди высоких побуждений. Охотников доказывать обратное на наш век хватило. Они в своем искусственном гневе «разоблачительства» волей–неволей принижали длительную и плодотворную работу партии в рядах советской интеллигенции. Но где они, эти охотники?.. А советские художники пришли к сорокалетию Октябрьской революции в невиданном идеологическом единстве, какого не могло быть в начале революции и не могло быть даже в 30‑х годах.
4
Сколько бы мы ни пеняли на себя за наши горькие ошибки и непростительные неудачи, но на земле появилось новое, советское сценическое искусство, которое вот уже сорок лет добросовестно и бескорыстно служит своему народу и соизмеряет свои достижения и неудачи с интересами народа.
Увы, мы слишком часто и по любому поводу повторяем вещи, которые для каждого из нас являются священными и сокровенными. От этого драгоценные понятия теряют свою силу. И если я сейчас повторил то, что составляет наши величайшие убеждения, то сделал это как естественный итог моих давних наблюдений и размышлений.
Человеком, олицетворяющим в полной мере лучшие черты художника советской эпохи, был Б. В. Щукин. Я не стал бы этого утверждать, если бы не знал лично Бориса Васильевича Щукина. Мой первый дебют в театре был отмечен его участием, которое позволило мне узнать его близко. Борис Щукин и в жизни и на сцене был велик как типическое явление своего времени. Я вижу часто это всегда неизъяснимое «что–то», что–то щукинское, то в одном, то в другом нашем современном актере. Наверно, современники Мочалова и Щепкина тоже видели это неизъяснимое «что–то», что–то мочаловское и щепкинское, в современных им актерах. Я Качалова не видел до 1925 года, но, увидевши, изумился оттого, что будто не раз встречался с ним на провинциальной сцене.
Человеком другого поколения был Вл. И. Немирович — Данченко. Щукин играл роль Ленина, а Немирович — Данченко учил артистов своего театра, как надо играть роль Ленина. Может быть, где–нибудь я уже рассказывал об этом, но факт таков, что рассказ о нем можно повторить.
…Шла репетиция в так называемом новом актерском фойе на третьем этаже Художественного театра, и по ходу репетиции зашла речь о том, каков Ленин, как его играть, имея в виду эпоху разрухи и голода.
При Немировиче — Данченко на репетициях всегда словоохотливые актеры как–то скупились на слова, стихали. Говорили мало, стараясь сказать главное, что думали о Ленине. Говорил и я, хоть постановщик чуть ли не запрещал обращаться к автору с вопросами. Но все–таки я что–то говорил, что было уже написано в тексте пьесы и, наверно, ничего неожиданного не давало.
Неожиданную мысль высказал Владимир Иванович.
— Он гневный… — сказал он исполнителю и несколько раз повторил с интонациями, ему одному присущими, — гневный, гневный.
«Как? — думалось мне тогда. — Ленин на прогулке… настроен хорошо… мечтает… как же гневный?»
И Немирович — Данченко горячо и убежденно объяснил свою мысль, свое режиссерское раскрытие образа:
— Это гнев великого революционера, преобразователя, строителя нового общества.
Нельзя цитировать по памяти, но за точность мысли я могу ручаться. Он широко и вдумчиво говорил о том, что Ленин не мог без гнева видеть ужасающую нищету, разруху, голод, он говорил о высоком революционном гневе, который составляет пафос работы Ленина. И когда мы, изумленные, с трудом понимали, что это за особый высокий ленинский гнев, он поднимался и показывал, как надо выразить артисту это сквозное и главное в ленинском образе.
Конечно, он был великим мастером мгновенно показать тот образ, который он выносил в своем громадном воображении. Мы буквально оцепенели… Аплодировали или нет, не помню, потому что мы не раз не могли удержать себя от рукоплесканий на его репетициях. Но помню, как тогда Борис Ливанов глянул на меня, и его выразительные глаза прямо говорили: «Какие все–таки мы маленькие».
Был ли режиссер похож портретно на Ленина — не в этом сущность. Он был в своем искусстве преображения великим человеком, душа которого кипела гневом… Нет, память мне подсказывает, что это величие было ленинским, характерным, единственным по самобытной выразительности. А иначе — чему бы изумляться? И с того дня для меня Владимир Иванович сделался столь же дорогим, столь же чтимым человеком, каким был Борис Васильевич Щукин. Я знаю, сколько надо передумать, пережить и перечувствовать, чтобы хоть на одно мгновение дать образно, пластически понять актерам, каким был Ленин, как его образ может воссоздать искусство.
5
Мне хотелось выхватить из своей почти тридцатилетней жизни в советском театре то особенное, что делает театр советским, и то, когда–то очень взволновавшее меня, что остается важным по сей день.
По моему горячему убеждению, важным остается, что все большие начинания советских художников театра шли от народной жизни. Когда Александр Афиногенов писал своего «Чудака», а МХАТ II ставил эту пьесу, театр ломился от зрителей, потому что пьеса была жизненной, а не надуманной, задевала за живое и вела человека к борьбе за лучшую действительность, а не уводила от действительности. Когда Константин Симонов, почти через двадцать лет, написал своего «Парня из нашего города» и театр Ленинского комсомола поставил эту пьесу, повторилось все, что делал со зрителем афиногеновский «Чудак».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: