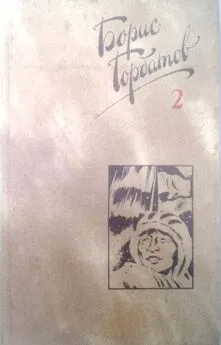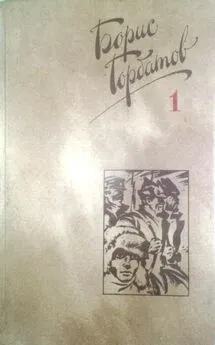Александр Серафимович - Собрание сочинений в четырех томах. Том 1
- Название:Собрание сочинений в четырех томах. Том 1
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательство Правда
- Год:1987
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Серафимович - Собрание сочинений в четырех томах. Том 1 краткое содержание
Собрание сочинений в четырех томах. Том 1 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В редкие минуты, когда хозяйка уезжала по делам, звенела вода, в лесу турлыкали по сухим ветвям горлицы и ворковали дикие голуби, Иван выходил на песчаный бугор, садился, брал в руки голову и думал.
Думал, что он будто на большой дороге, в палящий зной ходит по экономиям, и нет наемки, и нет росинки в пересохшем рту. Забыл и думать о хозяйстве, о семье. И будто кругом ничего нет, стоит только мельница, черная, насупленная. И будто пухнет она. Уже с ворота сделались двери, выше дерем мелькает огромное колесо, и под самые под серые облака поднялась рассевшаяся крыша. И куда ни глянет, везде чернеет мельница.
Глядь...
Он открывает глаза, встряхивает головой, — светит солнце, звенит вода, позади сквозь деревья чернеет мельница.
— Ишь ты, задремал. Пойти поглядеть засыпку.
Подымается и идет работать.
Ворочается хозяйка, — и опять лес, и звенящая вода, и воркующие голуби заслоняются криками, бранью, визгливой злобой.
XV
Задумался Иван. Мало стал есть, слом от него не добьешься, перестал бить хозяйку. Главное — перестал бить, и это больше всего ее тревожило. По целым ночам не спала, держала всегда хлеб и припасы под замком и зорко следила, чтобы не подсыпал чего за обедом.
— Ну, чего молчишь? Чего молчишь, кровопивец!..
Ранним утром, когда никого не было из помольщиков на мельнице, Иван пошел в амбар, порылся, что-то взял и, суровый и угрюмый, подошел вплотную.
— Пойдем.
— Это еще куда?.. Да чтоб ты сдох, чтоб тебя лихоманка затрясла, холера скрючила... чтоб ты!..
Он сбил кулаком, схватил за косу и поволок.
Старуха судорожно хваталась за ветки, за кусты, за траву, за песок, и стоял рев, как будто резали скотину.
Но когда мельница осталась позади и кругом безучастно обступил лес, молча и равнодушно глотая в ветвях полные предсмертного ужаса крики, старуха поднялась на ноги и проговорила, трясясь как лист:
— Иванушка, родименький, куда ты меня ведешь?
— Ну, иди, иди...
И они шли мимо высыхающих озер, мимо полян, белевших песком. И когда вошли в заросли, запутанные диким хмелем, сказал:
— Становись на коленки, молись богу.
В опущенной руке тяжело поблескивал топор.
Она повалилась, хватаясь и обнимая ноги.
— Родименький, не губи ты свою и мою душу... Дай ты мне наглядеться на свет божий...
А он спокойно и холодно:
— Намучился... нет моей мочи... дня не вижу... Все одно тупик мне... не выбраться... А тебе сдыхать давно пора, старая карга...
— Ванюшка, не даст бог тебе счастья... Попомни ты мое слово.
Она ползала, хватаясь за него в предсмертном ужасе. А он отступил на шаг.
— Ну, старуха, не хочешь молиться, что ль?.. Так и так отправишься...
И, отставив ногу, отмахнулся топором.
Она завизжала, но не визгом ужаса, а звериным криком захлебывающейся, рвущейся злобы:
— Духовное-то... духовное-то я... порвала!!
Он застыл с занесенным топором, а она каталась в истерически-злорадном хохоте, судорожно впившись в землю, и пена пузырилась на сведенных губах.
— ...порвала!.. порвала!.. порвала!..
И лес, хмуро обнимая со всех сторон, насмешливо и глухо повторял страшное слово:
— ...порвала!.. порвала!..
На сухой ветке кланялась ворона:
— Потерял... потерял... потерял!..
Выронил топор, пошел шатаясь, держа обеими руками голову. А над ними стояло бурое небо, бурый воздух, потонувший в мутно-бурой мгле лес. Песок поднялся до самого неба, и ходили, наклонившись, меняясь неясными очертаниями, косые столбы, теряясь гигантскими головами в мутно клубящихся облаках.
Куда ни глянешь, было все то же, и не было просвета, и не было пределов отчаянию.
XVI
Время шло не дожидаясь, как будто ничего особенного не произошло. Хозяйка возилась с птицей, резонилась с помольщиками, отбирала меру, Иван засыпал, наковывал камень, чинил поломки.
— Вот чего, хозяйка... Ежели завещание опять не напишешь, уйду, не из чего мне тут жить, вот тебе последний сказ.
— Пойдем к попу. У него лежало завещание, у него опять напишу.
Пошли.
Поп вышел на крылечко и сумрачно смотрел на обоих.
— Батюшка, до вашей милости.
— Вы чего же это, — не слушая, заговорил поп, — чего же это не венчаетесь? Что же это по-басурмански? Души-то свои в геенну готовите? Стыдно тебе, старая. Эдак я и причастия не дам, говеть будешь.
— Батюшка, да куда тут выходить-то. — Хозяйка заплакала. — Ведь смертным боем он меня бьет, места живого нету. А неделю назад чего задумал: завел в лес и хотел зарубить, вот как перед истинным. И теперь, которое завещание лежит у вас на него, пусть лежит... Но только если меня убитой найдут али помру, он меня, стало быть, извел. Так и знайте, хоть пускай режут мертвую.
Иван попятился. Холодный пот покрыл лицо.
«Так завещание цело было!»
В голове звенело, и он не слышал, о чем говорили.
— Э-э, да ты вон куда глядишь? Каторги захотел? Ну, вот чего — покос скоро, так приходи недельки на две причту скосить на церковной земле... Вместо епитимии тебе будет, грех будешь отмаливать... Да смотри приходи, а то и полиции можно... тово... А ты, старая, духовное лучше бы на церковь переписала... Да, а то грех эдак-то...
Мертвая петля захлестнулась. Уйти не хватало силы, да и от работы тяжелой отвык, на мельнице стоял непрекращающийся содом без отдыху и сроку. Хозяйка не переставала кричать: «Убийца! Арестант! Каторжник!», а он бил ее с остервенением.
XVII
Вечерял ли с хозяйкой на потухающей заре, говорил ли с помольщиками, засыпал ли ночью, всегда стоял возле кто-то третий. Иван поднимал глаза, и всегда один и тот же вырисовывался чернеющий силуэт мельницы.
В жужжании жернова, в переливающемся звоне колеса слышалась мерная речь. Кто-то неустанно и днем и ночью говорил без умолку.
Останавливался, наклонял голову, прислушивался. Чудилось длительно, монотонно:
— ...о-го-го-о-о... га-га-а-а-у-у... го-го-о...
Своеобразный, особенный, никому не понятный язык, но с человечьими мыслями. И, как проносящийся над рекою осенний туман, мысли эти неясно, разорванно, меняясь и тая, неуловимыми очертаниями смутно складывались в: «Ты — мой... ты — мой... Не уйдешь... Ты — мой... Не уйдешь... Ты — мо-о-ой!..»
К этому лениво ворочающемуся колесу, к этому черному, угрюмому срубу с нависшей соломой, к мерно звучащей воде, к жернову, неутомимо ведущему всегда однообразную речь, но с разнообразным таинственным содержанием, Иван научился относиться как к живому:
— Чего долго не идешь вечерять?
— Мельница, вишь, не пускает.
Или:
— Колесо нонче осерчало, трошки руку в плече не выдернуло.
Или:
— Но и развеселился нонче жернов — так и пляшет, так и пляшет, муку не успеваешь отгребать.
Когда уставали от ссор, драки и ругани, начиналось бражничанье, попойка и разгул. Приезжали из хуторов, пили помольщики, и дым шел коромыслом.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: