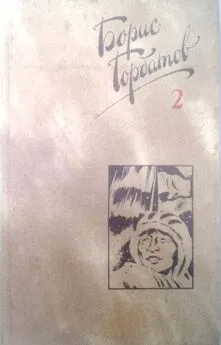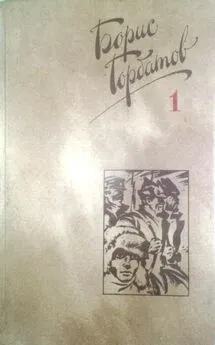Александр Серафимович - Собрание сочинений в четырех томах. Том 4
- Название:Собрание сочинений в четырех томах. Том 4
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательство Правда
- Год:1987
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Серафимович - Собрание сочинений в четырех томах. Том 4 краткое содержание
Собрание сочинений в четырех томах. Том 4 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Долина расширилась, стала просторнее и как будто виднее. Вдоль шоссе бегут плетни и изгороди. Идут коровы, незвонко позванивая: у каждой под шеей четырехугольная звякалка — лесной и горный обычай. Козы толкутся. Тепло мигнули огоньки.
И слышится:
— Та це!
— А бодай тоби, шкура барабанна!.. геть!.. геть!..
Что за чудо! Я в России. Хаты, теснота, дивчата загоняют хворостинами воров.
Приворачиваю к жердевым воротам. Стоит мужик в холщовых портах, в рубахе, подхваченной пояском, — честь честью. Можно переночевать?
Не спеша чешет себе под поясом, потом в голове.
— Та шо ж, можно. Чого ж не можно?
Скрипят ворота. Втаскиваю усталого, запыленного белой пылью «Дьявола». Двор маленький, в навозе.
— Пидемо до хаты.
В чулане — теленок. В хате тесно; передний угол до полстены засыпан пшеницей.
Хозяин нагибается, любовно берет горсть, ласково вскидывает на ладони, лицо блаженно разъезжается:
— Чижолая, бог дав! Та шо я вам кажу. Годов, мабудь, с двенадцать — ох, и пшеныця уродилась, ну, золото. По речке сиялы, и зараз сиим тамо. Воскресенье, помню, як зараз. Сонечко — так, як в обид. Пийшов до рички, дай гляну ще раз, а з утра косить. Глянув, душа радуется. Ну, пийшов до дому, пообидав тай прикурнув трошки, по праздному дилу. Ще й глаз не завел, як зашумит, як забурлит. Прибег сын: «Батя, поля нашего нема!» Побиг я, очима бурк-бурк, — ничого не пойму: оце, де пшеныця була як золото, самый камень та галька, а ричка, яка кошка бешена, цюркается, и уж у берегах бежить. Хто бачив, сказывають, горой вода шла. Повирите, оце двенадцать годив прошло, и як вспомню про пшеныцю — живот болить, до чего душа ное.
Нам ставят самовар.
Старший сын собирается в ночное, а лет одиннадцати мальчишка не хочет, и бабка говорит:
— От як погляжу я тоби у зад хворостиной, та як стане он у тоби добре красный, тож не станешь брыкаться. Кожух возьми тай... — голос бабки сразу добреет, — тай пирожка вишневого положи за пазуху.
— Не пиду-у!.. — гнусавит мальчишка, запихивает за пазуху пирог, берет овчинный пахучий тулуп и уходит с братом.
Молодуха-невестка, с худеньким, недоуменно остановившимся личиком первого материнства и недавнего замужества, возится у стола с посудой.
Крепкая рослая девка, с неподвижным, отсвечивающим влажным лицом, несет самовар и дышит, как запаленная лошадь, свистящим, громким, на всю комнату, дыханием.
Ее прежде дернут или ткнут — и тогда говорят:
— Ганка!
Она мычит, оборачивается, ей говорят, что нужно сделать, она радостно кивает головой и работает за пятерых, — силы-то девать некуда, а замуж никто не берет.
— К дохтору возили; говорят — от перерождения такая, и век у ней такой.
Мы с хозяином сидим под образами на лавке, едим с большой тарелки нарезанные помидоры, огурцы, потом основательно и долго пьем чай.
Крохотный ребенок, совсем голенький, лежит на спинке на коленях у бабки и неумело мотает в воздухе ручонками, ножонками; от давно не стиранных пеленок едко пахнет, и бабка приговаривает:
— У-у, хавалер! — двадцать разов на день вымочит бабку, двадцать разов высохнешь. Хавалер голопузый!..
У матери светится счастьем худенькое личико, и даже девка радостно мычит. Все дожидаются, пока мы кончим.
А у нас «расейские» разговоры.
— Та земли нема. Кабы земли. Шо на шести десятинах сделаешь? А тут зверь одолевает: свиньи хлеб весь изроют, медведь приде — кукурузу поломае. И лис рубить не дозволяеться, зараз начальство. Хоть плачь.
— Что же вы — сады? Ведь черкесы жили же?
— Сады!.. На сады капитала треба. А черкесы жили, так у него, у черкеса, по всем горам тропочки. На каждую гору тропочка. Он тут хозяин был. А нам нельзя, нам дорогу нужно, шоб арбой проехать, потому расейские, нам тесно. От шаши подался — и пропал. А с одной шашой не проживешь. А черкесы, тоже и им трудно: народ тихий, ничого, зла не бачим от их. Им не сахар. Забило их начальство геть у горы; а тут все пусто. По лису, куда ни пидешь, дикие яблони, груши, сливы, — ихние сады были. А теперь все одичало, заросло. Тропки забило травой да кустом, какие обсыпались, — один лис да звирь.
Долго мы вели все те же вековечные российские разговоры: земля, землицы, о земле, — и эти горы, леса и ущелья, это животворящее солнце, эта природа, рвущаяся от избытка производительности, не сумели переменить эти разговоры.
После нас сели пить чай бабы, молча.
Спал я великолепно на узенькой лавке, сунув под голову чемодан. Бабка неистово храпела на кровати, хозяин спал на полу у пшеницы, а из чулана доносился плач ребенка, сонное баюканье молодухи, свистящее на всю хату дыхание девки, да теленок возился. В хате — хоть топор вешай.
РАБ
Все то же: ущелье сменяется ущельем, перевал за перевалом, а кругом горы, леса, оглушительно надсаживаются цикады. Временами влетаю в густую аллею свесившихся с обеих сторон деревьев, и от пестроты мелькающих солнечных пятен, от невыносимого, как в коридоре, оглушительно звенящего треска цикад начинаю качаться на седле. Еще упадешь! Веки набрякли, голова распухла. Мимо осторожно проезжает автомобиль. Он странно набит людьми — сидят и вперед лицом и назад, держась друг за друга, по три человека на месте, и у шофера особенно напряженное лицо. Объезжаем друг друга.
Спускаюсь. Переезжаю великолепный железнодорожного типа огромный мост — и все другое: до далеких, едва синеющих гор открывается долина, вольным простором напоминая покинутые места милой родины. Цикады замолчали.
Шоссе вдруг выпрямилось и без изгиба потерялось другим концом в неуловимо-синеющей дали.
Горячий ветер, обгоняя, дует мне в спину и затылок. Я наклоняюсь и говорю:
— Прибавь!
«Дьявол» рванулся и радостно зататакал, а в затылок перестал дуть ветер.
— Прибавь еще!
Он наддал, и ветер загудел мне в лицо и мимо ушей.
— Можешь еще?
— «Могу».
Он залопотал так неразличимо-быстро, что я удивлялся, как у него язык поспевает. Белые шоссейные столбики, мостики, серые кучи щебня проносились мгновенными пятнами, а телеграфные столбы косо падали, как частый подсеченный лес.
Я глянул на трепещущую стрелку измерителя скорости: 58... 59... 58... 59... 60... 60...
А, так вот что: шестьдесят верст в час!.. Губы стали сохнуть.
Ветер рвется мне за шею, в горло, в рукава.
Тогда я приникаю и шепчу сухими полопавшимися губами.
— Голубчик... е... ще!..
И даю ему весь газ, весь воздух... Он ничего не отвечает, но — что наполняет меня трепетно-сладостным ощущением смертельной опасности — теряет свое членораздельное татаканье, и в воздухе стоит высокий напряженный одинаковый звук: ввв-у-у-у-у...
Ровный, высокий, однотонный: ввв-у-у-у-у... И рядом чей-то, тоненький-тоненький, звенящий: дзи-и-и-и-и...
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: