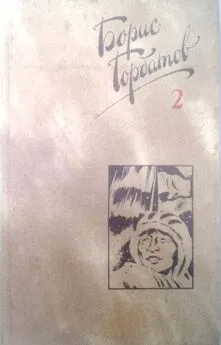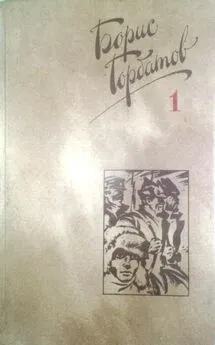Александр Серафимович - Собрание сочинений в четырех томах. Том 4
- Название:Собрание сочинений в четырех томах. Том 4
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательство Правда
- Год:1987
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Серафимович - Собрание сочинений в четырех томах. Том 4 краткое содержание
Собрание сочинений в четырех томах. Том 4 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
День за днем проходит, а для Марфы как будто все тот же страшный день, когда отворил дверь почтальон и, щупая ногой ступеньку, сказал громко и начальнически:
— Марфа Ивановна Козырева здесь?
Днем перестали отпускать господа Марфу, — нельзя же без обеда сидеть, а вечером все учреждения закрыты, да и отовсюду стали ее гнать — надоела, а бросить место не в силах — все здесь напоминает Лешеньку, и здесь она в последний раз его видела. Как живой, он стоит перед ней, торопливо сбрасывает пальто, картуз и торопливо, оглядываясь и не зная, куда деть, говорит, а щеки — землистые, ввалились, и нос востренький. И плачет Марфа Ивановна.
Одно утешение осталось у Марфы. Уберется с обедом, с посудой и потихоньку урвется из дома. Сядет на трамвай и проедет к тюрьме. А тюрьма стоит, вся в огнях, и ослепительно все заливают кругом электрические фонари.
Кругом спешит публика, звонят трамвайные звонки, несутся лихачи, спотыкаясь спешат извозчичьи лошаденки, а Марфа стоит одна, зажимая в комочек свернутый платок, и плачет, поминутно утираясь, и среди бесчисленных окон выискивает одно дорогое окно. Их множество, и все они одинаково освещены, и ни в одном никого не видно.
Она выберет какое-нибудь одно и стоит, и ждет, и утирает неудержимые слезы.
В городе много тюрем, но ей кажется, что именно в этой тюрьме сын. В тюрьме множество окон, но ей кажется, — именно за этим окном сын. Долго стоит и смотрит, потом уезжает.
А дома достанет измятый, протертый по складкам листок, накрест промазанный чем-то желтым, и просит:
— Антон Спиридоныч, родной мой, почитай ты мне.
— Да и читать-то там нечего.
Все-таки надевает железные очки, откашляется и хрипло начинает:
— «Мамаша, судьба моя конченная... Любящий сын
Алексей ».
Он снимает очки, а она глотает слезы и тщательно прячет письмо, — больше писем не приходило. И кажется ей прежняя жизнь такой, что счастливее и светлей не бывает и в хоромах.
Глаша, усталая, спала крепко и не могла проснуться, а по крыше кто-то гремел железными листами, не переставая.
«Господи, чтой-то?! Али Антону Спиридонычу нужно пиво?» — думала она и знала, что думает во сне, — но железными листами так нестерпимо гремели, что необходимо было проснуться, а проснуться не могла, стала дрожать в холодном поту и просить: «Будет... ну, будет...»
На крыше, не уставая, гремели железом.
Она собрала все силы, перестала дышать и... поднялась на локте, дико глядя широко открытыми глазами, возле горой лежал Антон Спиридоныч, неподвижной страшной горой и, не переставая, лопотал: «Лла-ла-лла-ллл..»
Дядя Федор клал на полу возле кровати поклоны, глядя на красный глазок лампадки:
— ...блудущих, путешествующих и всех православных христиан спаси и помилуй!
— Господи-и!! — пронзительно закричала Глаша.
Дядя Федор положил последний поклон, поднялся и заглянул в лицо Антону Спиридонычу.
— Эх, сердешный!.. Язык отнялся... Надоть воды...
Глаша, не переставая, отчаянно кричала пронзительным голосом.
— Да ты что раздираешься... — закричала Марфа, — господ побудишь...
Но глянула на Антона Сдиридоныча и часто закрестилась.
— Свят... свят... свят...
В потолок равнодушно глядел из-под полуспущенного неподвижного века остановившийся глаз; другой глаз беспокойно и торопливо моргал и все скашивался, ища Глашу.
А она кричала:
— Господи!.. Ну, куда я теперь с тобой, с Иродом?.. Не написал духовного... Побираться, что ли?.. Да что я за несчастная!..
Она выла, а на Антона Спиридоныча лили воду, растирали, но все так же равнодушно из-под мертвого века глядел неподвижный глаз, а другой торопливо, беспокойно моргал, и по небритой, щетинистой с проседью щеке ползла, цепляясь, тяжелая слеза, и стояло:
— ...Ллла-лла-лла-ллл...
К концу недели Антону Спиридонычу стало лучше. С помощью Глаши он мог перейти до стола в кухне, все так же глядя перед собой неподвижно равнодушным глазом, волоча ногу, и левая рука висела, как плеть.
Теперь Глаша с утра до вечера бегала на поденную, а когда ворочалась вечером, только и слышался ее крикливый голос.
— Идол толстый! Корми его... Сам и ходить не может, а жрет в три утробы... Жизнь мою заел... Не умел сдохнуть вовремя.
А он жалобно оправдывается:
— ..Лла-ллла-лла-ллл...
За кухонным столом, покрытым штопаной скатертью, как и бывало, чаевничают со своим чаем-сахаром.
Прихлебывает Мирон с горячего блюдца, и нос у него красный. Тут же, шмыгая отцовскими сапогами, загоняет Сенька мышей в ящик, — и всего-то их с десяток. Только и осталось у Мирона — что Сенька да горсточка мышей.
Привела Глаша и Антона Спиридоныча. Он тащит ногу, рука висит, глаз мертвенно неподвижен, а другой, живой, любовно ощупывает всех за столом, и трудный, неслушающийся язык ласково и настойчиво лопочет:
— ...Ллл-лла-лла-ллл...
— Ну, садись, толстопузый Ирод!.. И когда только околеешь, окаянный, нет на тебе износу...
По обыкновению чашку за чашкой терпеливо пьет без сахара, отирая взмокшее лицо» дядя Федор» как бы говоря всем своим видом: «Ну-к, что ж, ничего... ничего... почаевничаем, милые... всяк злак на потребу».
И дочка возле. Она теперь часто наведывается, но без шляпы, в платочке, испитая, и с желтыми пятнами. Уже не приезжает на автомобиле, а когда приходит, просит, чтобы другие не слыхали:
— Папаша, вы уж достаньте мне еще чего-нибудь из сундука, а то обносилась до того...
Дядя Федор почешет в затылке.
— Эх, доченька!
И лезет в заветный сундук, а в сундуке-то на донышке, не прибавляется, а убавляется, — все повыудила дочка. И хоть по привычке в нитку тянется дядя Федор, понимает — не к свадьбе дело.
С ласковыми, тихо сияющими голубыми глазами пьет чай Груня почернелым от выбитых зубов ртом, и одно опухшее веко у нее вывернуто.
Только Алексея Иваныча нет, пьянствует и редко заглядывает домой, а завернет — страшно становится в полуподвале.
Тихонько прихлебывают горяченькую водицу; изредка перекидываются словом, как будто сердцем все пережито и для слов ничего не осталось.
— Ухи бычьи нонче как подорожали!
— Страсть...
— Варишь-варишь — и нет ништо, как тряпки...
Сенька тихонько сидит в углу на каменном полу и, молча, запустив палец, ковыряет дыру надетого отцовского сапога; мальчик умеет молчать, — его голоса никогда не слышно.
С потолка глухо, как дальний гул по мостовой, падает, — жиличка на фортепиане обучает учениц, и этот глухой, тяжелый, неустанный гул наполняет кухню и тупички, замирая в толстых стенах.
— Под музыку, — говорит Мирон, громко схлебывая с блюдца.
Опять молча тянут, обжигаясь губами, и без конца подставляют под самоварный кран разных мастей чашки, но все до одной пузатые.
И опять кто-нибудь скажет:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: