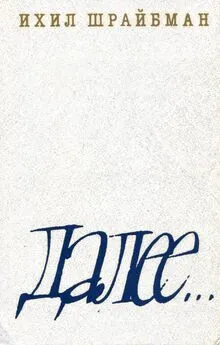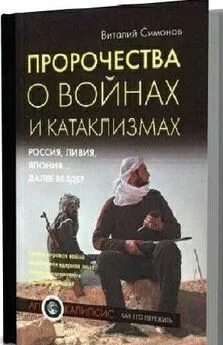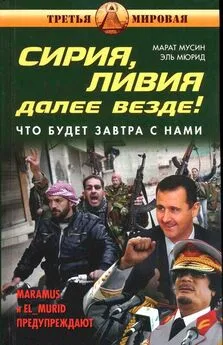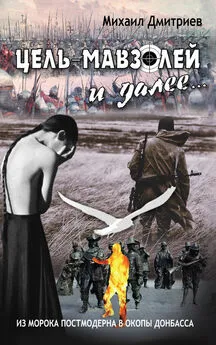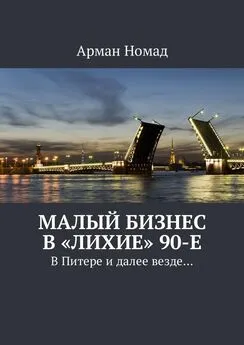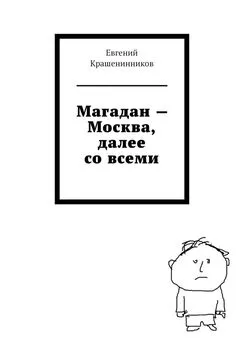Ихил Шрайбман - Далее...
- Название:Далее...
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советский писатель
- Год:1988
- Город:Москва
- ISBN:5-265-00087-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ихил Шрайбман - Далее... краткое содержание
Новый сборник еврейского писателя И. Шрайбмана интересен и разнообразен по составу. Роман «Далее…» — большое автобиографическое произведение, действие которого происходит в досоветской Бессарабии. Рассказы и очерки — и о прошлом, и о наших современниках. В миниатюрах автор касается темы искусства, литературы, писательского мастерства.
Далее... - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Иногда так, а иногда так. И так, и не так. Что перевешивает? Стрелка весов не останавливается. Вот склоняется она в одну сторону, вот в другую сторону. Посередине, выпрямившись, она колышется, подрагивает. На одной стороне или на другой стороне она не задерживается, никогда не останавливается, не застывает на месте.
Что я за человек?
Если б можно было на одно мгновение вылезть из собственной шкуры, освободиться от самокопания и самоискания, свободно, со стороны, в один этот миг вдруг найти такой штрих, где ты есть полностью ты, самому схватить себя за руку: вот такой ты!
Как случилось со мной как раз сегодня утром. Здесь. В ялтинском Доме писателя, где пишу я эти строки.
Женщина средних лет, обыкновенная женщина, чуть полноватая, с добрым открытым лицом, какие часто бывают у полных людей. Что-то слишком уж долго смотрела она на меня. Мы, тогда еще незнакомые, входя в столовую поесть, стали друг с другом здороваться. Сегодня мы столкнулись с ней лицом к лицу, остановились и разговорились. Да, Кишинев она знает, она в Кишиневе закончила университет. Она знает многих моих знакомых — кишиневских писателей. Нет, меня она не знала. Я ее тоже никогда не видел. Живет она в Москве, коренная москвичка. В Москве она подружилась с Ионом Друцэ [4] Друцэ Ион Пантелеевич (р. в 1928 г.) — молдавский советский писатель.
. То есть не так с ним, как с ней, женой Друцэ, Эрой, дочерью Росина [5] Росин Самуил Израйлевич (1890—1941) — еврейский советский поэт.
. «Вы знали Самуила Росина?» — «Я была еще тогда ребенком. Мой отец дружил с Росиным». — «Ваш отец, он был писатель?» — «Да, еврейский писатель». — «Кто?» — «Иоффе» [6] Иоффе Юдл (1882—1941) — еврейский советский писатель.
. — «Юдл Иоффе?»
В одно мгновение — в то мгновение, о котором я только что говорил выше, — я увидел на обеих руках моих, снизу доверху, гусиную кожу, ощутил влагу в своих глазах. Юдла Иоффе я уже не застал. Я впервые приехал в Москву в сорок пятом, он умер в сорок первом. Но мне было достаточно увидеть его дочь. Достаточно было только услышать имя Иоффе.
— Помню рассказ вашего отца. Кажется, «Чистое золото».
Я поднялся в свою комнату взволнованный. Один штрих свой — любовь, любовь к советским еврейским писателям, ко всем без исключения, к самому большому и самому маленькому, увидел я в один момент как бы со стороны, нащупал в себе вот этот штрих, где я — полностью я, сам схватил себя за руку: вот какой ты человек!
Строки эти не имели бы никакого отношения к тому, о чем я рассказываю в этой главе, если бы я не помнил так четко, что в те ясские дни у Мани и Дуцэ, в их шкафчике с книгами, я нашел «Зельменьяне» Кульбака [7] Кульбак Мойше (1896—1940) — еврейский писатель.
и «Меру строгости» Бергельсона [8] Бергельсон Давид Рафаилович (1884—1952) — еврейский советский писатель.
. Я лежал, опершись о стенку, на диванчике, читал и читал, и одиночество мое, и моя растерянность стали понемножку слабеть, отступать от меня.
Я прикрыл глаза. Во тьме привиделась, пригрезилась мне моя собственная, далекая, звездная тропа.
Любовь мою к советской еврейской литературе — за ее новые, и своеобразные, и трудные, и неистоптанные пути, за углубленность ее в обиды человеческие и за ее возвышение людской красоты, за трудно утверждавшуюся судьбу ее — ношу я в себе с тех дней.
Все пять десятков лет.
Стрелка на весах не колеблется, не подрагивает.
И никакой тяжелой гире ее не перевесить.
Город Яссы виднеется издалека. Издалека он какой-то приземистый. Дымы и дымки стирают верхушки церквей, высокие башни, фабричные трубы — город выглядит как большая деревня. Ночью вспыхивают, мигая, мириады огоньков, густо, близко друг к другу, сливаются друг с другом, среди дымов и дымков превращаются в сплошной огонь — город зажегся, город горит.
Внутри, в нем, среди его высоких стен и тесных улиц, чувствуешь себя как бы под ним — раздавленным и расплющенным.
Здесь, наверху, среди длинных рядов виноградников, бегущих вверх-вниз по холмам насколько хватает глаз, чувствуешь себя как бы над ним.
И опять же, раздавленным и расплющенным.
Ночью спим мы оба, я и Федя, в старой разрушенной конюшне. А может, это даже и не конюшня. Две почерневшие каменные стены с дырявой замшелой крышей прямо на этих единственных двух стенах. Мы спим в фаэтоне. Спим сидя. Федя с запрокинутой головой, я с запрокинутой головой. Два франта после ночной гулянки трясутся утром с пьяно-запрокинутыми головами в фаэтоне без кучера, без вымуштрованной лошадки с белым пятном на лбу, и лишь две рассохшиеся и растрескавшиеся оглобли зацепились за крышу. Мы жутко пьяны от усталости. Сквозь дыры в крыше и сквозь другие две стены, которых нет, заглядывает свет луны, звездный свет, и всю ночь нам сквозь сон все мерещится, что уже занялся день, уже взошла утренняя звезда, вот послышится хлесткий крик, как хлест кнута: хайде, мэй! Хватит, дескать, дрыхнуть. Подымайтесь к божьей службе! Целый день на палящем солнце, до первых вечерних звезд, обрезать и опрыскивать лозу, столько-то и столько-то кустов. Мы спим на пружинах. Пружины фаэтонного сиденья старые, ржавые, но, наверно, еще достаточно сильные, упрямые, прорвали сопревшую кожу сиденья и выбрались наружу, вытянулись во всю свою длину: «Вот и наше время пришло свободно вздохнуть, на мир поглядеть!» Усаживаясь спать, мы обеими руками вдавливаем пружины обратно в сиденье, быстро плюхаемся на них, чувствуем, как они с нами сражаются, лезут нам прямо в печенки. В один прекрасный день (мы, с божьей помощью, становимся день ото дня все легче) они пнут нас хорошенько и скинут с себя вовсе, от таких господ, как мы, тоже избавятся. Фаэтон, наверно, очень старый, какого-нибудь давнего-давнего барина. Чего он только за свою веселую жизнь не перевидал! Каких только господских историй не смог бы он нам рассказать! Но нам с Федей хватает сейчас своих собственных историй. Мы так наработались, что спим без снов. Мы не храпим даже. Мы и не спим — мы дремлем. Большей частью даже и не дремлем. Мечемся между явью и сном. Федя на своей пружине корчится, вертится на ней туда и сюда, сплевывает, коротко ругается и вдруг, среди ночи, задает мне тяжкий вопрос:
— Скажи, ты ж больше разбираешься. Отчего мой отец повесился?
Я аж вскакиваю.
— Нашел время говорить о таких вещах! Сиди. Спи.
— Взял веревку, залез на чердак и повесился. Утром я туда поднялся покормить голубей. Все мои четыре голубка приткнулись под стрехой, перепуганные, с растрепанными чубами, жались друг к другу. Увидели меня, стали ворковать, что-то рассказывать, жаловаться на что-то. Поворачиваюсь — за трубой висит отец. Он, наверно, на веревке сильно дергался, боролся с веревкой, он, наверно, сразу пожалел.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: