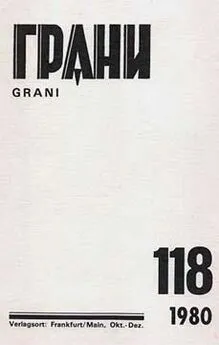Владимир Солоухин - Владимирские просёлки
- Название:Владимирские просёлки
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:«Художественная литература»
- Год:1983
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Солоухин - Владимирские просёлки краткое содержание
Чтобы написать книгу «Владимирские просёлки», Владимир Солоухин в июне 1956 года прошел пешком, проскакал на лошади, проехал на автомобиле и проплыл на колесном пароходе через всю Владимирскую область.
Путевой дневник, ставший лирической повестью рассказывает о жизни нестоличной России середины 50-х.
Владимирские просёлки - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Прах полководца покоится теперь на Бородинском поле, но луч Багратионовой славы капризно упал на безвестное глухое село, затерянное в глубине Владимирского ополья, и осветил его для многих и многих поколений, отняв у безвестности. Теперь уж ничего не поделаешь. Сколько бы ни прошло времени – всегда будут говорить и писать: «Багратион скончался в селе Симе, в двадцати трех верстах от уездного города Юрьева».
Председатель Симского колхоза Павел Ефимович Киреев, цыганского типа, здоровенный, несколько раскосый мужчина, сидел за столом в соломенной шляпе, у которой, исходя из ширины лица, могли бы быть более широкие поля.
Над председателем из овальной золоченой рамки смотрело суровое лицо вождя. Владимир Ильич, казалось, глядел как раз на председателевы руки и на то, что в них находится. А в них находилась небольшая, крупно исписанная бумажка. Перед председателем сидело несколько человек мужчин с топорами – значит, плотники.
– Хорошо. Договор подпишем. Зайдите к вечеру.
Плотники пошушукались.
– Нет, мы уж подождем. Нам все одно. Мы авансик хотим.
– Сколько?
– Да уж и не знаем…
– Три с половиной.
Плотники опять пошушукались.
– Мало! Праздники идут, Троица…
– Хорошо. Договор подпишем, а деньги – аванс – получите накануне праздника. А то вы ведь сразу и загуляете, значит, пропадет два рабочих дня.
Плотники помялись, пошушукались еще раз, но председатель занялся другим делом. А другое дело было неприятное. В его отлучку пришлось забить корову. Кладовщица почему-то не приняла мяса от завхоза, кажется, потому, что было неклейменое, а завхоз почему-то не убрал его в холод, а вместе они почему-то не сдали его хотя бы в чайную, и вот мясо протухло.
Мы с интересом ждали, какое будет решение. Председатель поступил сурово, но справедливо. Мясо пропало единственно из-за халатности двух людей, и, значит, стоимость его будет взыскана с них. За это, пожалуй, и с работы стоило бы снять. Ведь дело не в стоимости коровы, а в отношении этих людей к общему делу.
Дела в колхозе шли неплохо. Впрочем, поправляться они начали с 1954 года, с приходом этого председателя. Было так, что из развалившегося свинарника ночью разбегались последние свиньи. «А теперь вот новенький на тысячу голов!»
Колхозники приходили просить хлебушка, хоть какого-нибудь, да дай. «А теперь какого-нибудь не хотят, дай пшеницы!»
Начал Киреев поднимать колхоз с животноводства. На последние деньги купил пятьдесят голов скота и все силы бросил на сохранение телят. План удался. Хозяйство набрало силу.
Давно мы хотели поинтересоваться, как на деле проходит планирование снизу, о котором так часто упоминается в газетах.
– Все зависит от председателя, – ответил Киреев. – Робок председатель, боится районного начальства, значит, будет делать, что ему скажут. Потверже – снизу линию поведет.
– Но при твердости возможно теперь снизу линию вести?
– Как же. В постановлениях прямо говорится: развязать инициативу колхозников, а с местным районным начальством, конечно, самим приходится воевать. Были у меня случаи, судите по ним, можно ли проводить планирование снизу. В первый год, как я пришел, запоздали семенной клевер убрать. Он осыпался, самоподсеялся. Можно понять, что на другой год здесь хороший клевер уродится. А мне говорят: «Нужно это поле перепахать». Я говорю: «Не буду». А мне говорят: «Перепахать».
– Кто говорит?
– Девочка, так лет девятнадцати, из МТС. Наш агроном ее сторону занял. Как мне быть? Вспомнил, что дело-то колхозное решаем, а не наше с агрономом. Если бы и раньше почаще про это вспоминать! Собрал колхозников: «Как, мужички?» Мужички в хозяйстве понимают. «Не дадим – и баста!» Демократия в чистом виде. Не дали. Ждем, что будет.
– И что было?
– А то, что клевер уродился на диво. Тридцать восемь скирд наметали. Глянешь, а они, как грибы, по всему полю стоят.
– Были и другие случаи. Спускают мне план на пшеницу – сорок пять гектаров. А я вижу, что это курам на смех, да и поговорку помню, что «озимые к яровым за хлебом никогда не ходили». Вместо сорока посеял триста. И ничего… Все довольны. Впервые овощи начали сеять. Тоже раза в три больше плана засеяли. Главное – нужно доверять колхознику. Может, на первых порах и была польза в опеке, в указаниях, в подсказках на каждом шагу. Да теперь-то вон сколько лет прошло. Неужели он землю свою не знает или худа себе хочет?
– Аванс даете?
– Ежемесячно четыре рубля на трудодень. Тоже рост.
Ночевать нас определили к Николаю Ивановичу Седову. Это было сделано не без умысла. Седов родился, провел детство и жил до революции в княжеском доме и будто бы много знает про Багратиона. Семидесятилетний старик, он произвел на нас сильное впечатление. Его лицо было отковано из темной бронзы. Мохнатые брови, горбатый нос, тонкие губы – все это прочно, породисто, красиво. Еще больше, чем на бронзу, походило его лицо на темный дуб, на скульптуру из дерева. И весь он, в рубахе, выпущенной поверх штанов и распахнутой на груди, был как дуб – кряжистый, устойчивый. В разрез из рубахи проглядывало темнодубовое тело. Он пил чай, распарился и теперь блестел, как полированный.
Колхозники не упускали случая, чтобы кольнуть Седова. Ты, мол, княжеский приспешник, на побегушках у князя был, тарелки за ним лизал. Но Николай Иванович относится к этому стоически и, несмотря на свой возраст, исправно работает в колхозе.
В посудном шкафу у Седова среди незамысловатой крестьянской утвари – стаканов, чашек и прочего – красуется вещичка из далекого, несуществующего мира, как бы обломок Атлантиды, вымытый на берег океана прибоем. Вещичка эта – страусовое яйцо, взятое в золоченую резную оправу. За ним одним угадывалась роскошная гостиная со сверкающим паркетом, с тяжелыми портьерами, с канделябрами и бра, с породистыми женщинами в шуршащих платьях.
Прошлый мир исчез, но иногда он нет-нет да и проглянет таким вот страусовым яйцом или статуэткой японской резьбы, найденной в земле ребятишками, или кустом заморских роз, расцветших вдруг на колхозной усадьбе, или бочонком вина, найденным в корнях выкорчеванного дерева. Но если остались, продолжают жить приметы старого мира внешние, значит, должны быть и внутренние, в душах людей, в их сознании.
Кроме яйца, нас поразил висевший на стене увеличенный портрет хозяина дома в молодости.
– Неужели это были вы?
– Я самый и есть. Что, хорош? За мной, бывало, девки косяками ходили, дрались из-за меня, царапались. Ради Христа, бывало, просит погулять с ней. Художник к князю приезжал, посадит меня и рисует. А потом сказывал, будто мой портрет в Америку за двадцать пять тысяч продал. Вот и мне маленькую картинку оставил.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: