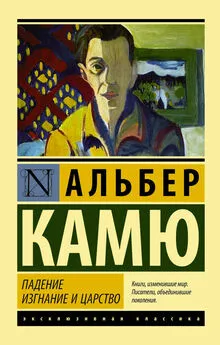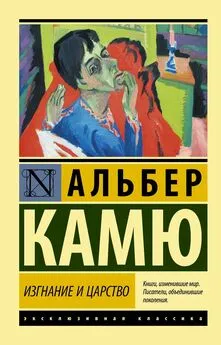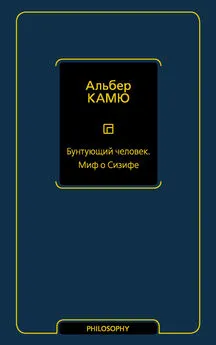Альбер Камю - Бунтующий человек. Падение. Изгнание и царство. Записные книжки (1951—1959)
- Название:Бунтующий человек. Падение. Изгнание и царство. Записные книжки (1951—1959)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент АСТ
- Год:1951
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-982827-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Альбер Камю - Бунтующий человек. Падение. Изгнание и царство. Записные книжки (1951—1959) краткое содержание
Не важно, идет ли речь о программном философском эссе «Бунтующий человек», о последнем законченном художественном произведении «Падение» или о новеллах из цикла «Изгнание и царство», отражающих глубинные изменения, произошедшие в сознании писателя, – Альбер Камю неизменно говорит о борьбе с обстоятельствами как о единственном смысле человеческого существования.
Кроме того, издание содержит полный текст записных книжек с марта 1951 по декабрь 1959 года – творческие дневники писателя.
Бунтующий человек. Падение. Изгнание и царство. Записные книжки (1951—1959) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Теоретически слово «революция» сохраняет то же значение, в каком оно употребляется в астрономии. Это движение по замкнутому кругу, после полной смены лиц приводящее к переходу от одного правления к другому. Смена характера собственности без смены соответствующего типа правления – это не революция, а реформа. Не бывает экономической революции – ни мирной, ни кровавой – без политического наполнения. В этом уже заключается отличие революции от бунтарского движения. Знаменитое «Нет, сир, это не бунт, это революция» подчеркивает эту сущностную разницу. Точный смысл этих слов подразумевает «уверенность в новом правлении». Бунтарское движение быстро выдыхается. Оно лишь знак, не имеющий последствий. Напротив, революция начинается с идеи. Точнее говоря, революция – это включение идеи в исторический опыт, тогда как бунт – всего лишь движение, ведущее от индивидуального опыта к идее. Если история бунтарского движения, даже коллективного, это всегда история фактически тупикового выступления и смутного протеста, не затрагивающего ни систем, ни причин, то революция – это попытка подчинить действия той или иной идее и переустроить мир по теоретическому образцу. Вот почему бунт убивает людей, а революция одновременно уничтожает и людей, и принципы. По той же причине можно сказать, что в истории еще не было ни одной революции. Революция может быть только одна, окончательная. Движение, на первый взгляд замыкающее круг, уже начинает новый – в тот самый миг, когда учреждает новое правление. Анархисты во главе с Варле справедливо заметили, что правление и революция в прямом смысле слова несовместимы. «Противоречие заключается в том, что правительство никогда не может быть революционным по той простой причине, что оно правительство», – говорит Прудон. На основе имеющегося опыта добавим к этому, что правительство может быть революционным, только выступая против других правительств. Революционные правительства большую часть времени вынуждены выступать в роли военных правительств. Чем шире размах революции, тем выше предполагаемая ею военная ставка. Общество, родившееся в событиях 1789 года, рвалось сражаться за Европу. Общество, родившееся в событиях 1917-го, билось за мировое господство. Таким образом, всеобщая революция – и дальше мы увидим почему – ставит своей целью власть над всем миром. При поверхностном изучении можно прийти к выводу, что речь идет не столько о реальном освобождении, сколько о самоутверждении человека – все более широком, но так и не завершенном. Действительно, если бы революция свершилась хотя бы раз, никакой истории больше не было бы. Осталось бы счастливое единство и сытая смерть. Вот почему все революционеры в конечном счете стремятся к объединению мира и действуют так, словно они поверили в конечность истории. Оригинальность революции XX века заключается в том, что она впервые открыто заявила о претензии на осуществление старинной мечты Анахарсиса Клоотса об объединении всего рода человеческого и одновременно об окончательном завершении истории. Если бунтарское движение пришло к принципу «все или ничего», если метафизический бунт стремился к единству мира, то революционное движение XX века, столкнувшись с неумолимыми последствиями собственной логики, с оружием в руках требует себе всю историю. Тогда бунт, чтобы не превратиться в устаревшую «пустышку», вынужден становиться революционным. Для бунтаря речь уже не идет о самообожествлении по примеру Штирнера или об одиночном спасении в позерстве. Речь идет об обожествлении вида, как у Ницше, и об ответственности за идеал сверхчеловека, призванного обеспечить спасение всех, как мечтал Иван Карамазов. Тогда на сцену впервые выходят «Бесы», иллюстрируя один из секретов эпохи: тождество разума и воли к власти. Бог умер, значит, надо изменить и заново организовать мир силами человека. Одной силы проклятия для этого недостаточно, необходимо оружие и полное завоевание. Революция, даже такая – и особенно такая, – которая претендует на материалистичность, на самом деле является всего лишь метафизическим крестовым походом, забывшим о чувстве меры. Но является ли тотальность единством? На этот вопрос и должно ответить настоящее эссе. Очевидно одно: наш анализ не преследует цель дать описание, стократно повторенное, феномена революции или еще раз перечислить исторические и экономические причины великих революций. Наша цель – найти в некоторых революционных событиях логическую последовательность, наглядные примеры и постоянные проявления метафизического бунта.
Большинство революций обретают форму и самобытность в убийстве. Все или почти все революции сопровождались убийствами людей. Но некоторые из них вдобавок практиковали цареубийство и богоубийство. Как история метафизического бунта началась с Сада, так и наша тема по-настоящему начинается с цареубийц – современников эпохи, когда люди дерзнули поднять руку на земное воплощение Божества, но пока еще не на вечный принцип. Но еще раньше человеческая история показывает нам прообраз первого бунтарского движения – восстание рабов.
Когда раб восстает против хозяина – это восстание одного человека против другого, и оно происходит на жестокой земле, вдали от небесных принципов. Результатом становится всего лишь убийство одного человека. Восстания рабов, жакерии, войны гёзов, крестьянские бунты утверждают принцип эквивалентности: жизнь за жизнь, и точно тот же принцип, несмотря на всю новизну и все мистификации, мы обнаруживаем в самых чистых формах революционного духа, например в русском терроризме 1905 года.
Показательно в этом отношении восстание Спартака на закате Античности, за несколько десятков лет до наступления христианской эры. Прежде всего отметим, что речь идет о восстании гладиаторов, то есть рабов, обреченных сражаться друг с другом ради удовольствия хозяина и в поединке убить или быть убитыми. Поднятое группой из семидесяти человек восстание вскоре объединило в своих рядах семьдесят тысяч бунтовщиков; эта армия разбивала отборные римские легионы и захватывала одну область Италии за другой, пока не подошла к самому Вечному городу. Между тем, как отмечает Андре Прюдомо [25] La Tragédie de Spartacus. Cahiers Spartacus.
, этот бунт не дал римскому обществу ничего принципиально нового. Призыв Спартака ограничивался обещанием предоставить рабам «равные права». Действительно, этот переход от факта к праву, который мы проанализировали, рассуждая о первом побуждении бунтаря, представляет собой единственное логичное достижение, доступное на подобном уровне бунта. Бунтарь отказывается быть рабом и провозглашает себя равным хозяину. Он хочет в свою очередь стать хозяином.
Интервал:
Закладка:
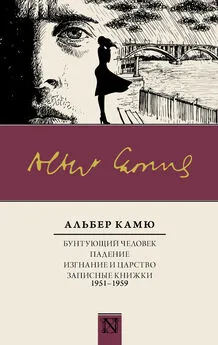
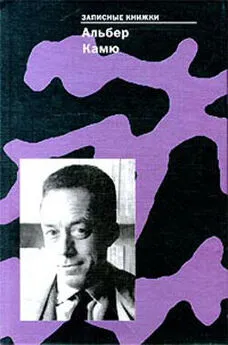
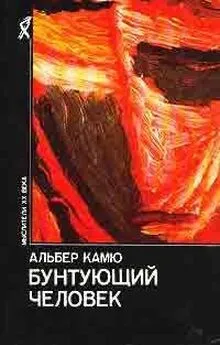

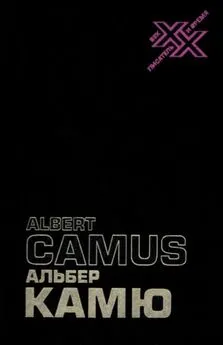

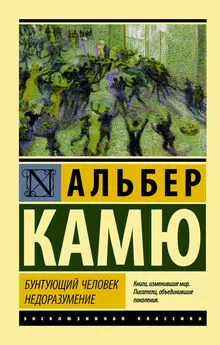
![Альбер Камю - Бунтующий человек. Недоразумение [сборник]](/books/1100727/alber-kamyu-buntuyuchij-chelovek-nedorazumenie-sbor.webp)