Янка Брыль - Осколочек радуги
- Название:Осколочек радуги
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Государственное Издательство Детской Литературы Министерства Просвещения РСФСР
- Год:1962
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Янка Брыль - Осколочек радуги краткое содержание
Деревенский пастушок, затем — панский солдат, невольный защитник чужих интересов, создавая теперь, в наши дни, такие произведения, как повесть «Сиротский хлеб» и цикл рассказов «Ты мой лучший друг», думал, конечно, не только о прошлом…
В годы Великой Отечественной войны, бежав из фашистского плена, Янка Брыль участвовал в партизанском движении.
Рассказы «Мать», «Один день», «Зеленая школа» посвящены простым советским людям, белорусским народным мстителям, обаятельным, скромным и глубоко человечным.
К этим рассказам примыкает и рассказ «Двадцать» — своеобразный гимн братству простых и чистых сердцем людей всей земли.
Остальные рассказы сборника — «Ревность», «Осколочек радуги», «Тоска» и «Надпись на срубе» — повествуют о радостях мирного труда, о красоте белорусской природы, о самой высокой поэзии жизни — поэзии детства.
Осколочек радуги - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Затем послышался треск мотоцикла. Ехал вездесущий эконом Гуляйнога.
Он и в самом деле всюду сразу поспевал. Владения юнкера раскинулись далеко во все стороны от усадьбы. И каждая группа работающих в поле батраков или пленных по нескольку раз на день слышала треск мотоцикла. Если же он затихал, это означало, что эконом глядит в бинокль, высматривает, нет ли где лодырей или саботажников. Ходил и ездил он всегда с клюшкой.
Теперь, остановившись возле нас, Гуляйнога соскочил с мотоцикла и поднял свою клюшку…
Это было уже свыше меры.
Я подскочил к эконому как раз в тот момент, когда он замахнулся. Не знаю, как это вышло, может быть оттого, что он от неожиданности растерялся, но вырвать клюшку у него из рук я, голодный, обессиленный, все-таки успел. Потом кто-то сбил меня с ног, ударив сзади по голове, должно быть, прикладом, и встать самому мне не пришлось. Когда же меня подняли, руки мои были скручены так же, как у Стася.
Больнее всего, кажется, было то, что остальные наши два товарища — Карпович и маленький набожный Цыдзик — не бросились на помощь. Мне от злости представилось даже, а может быть, я это и увидел, как белобрысый Карпович все еще раздумывает, стоит ли вмешиваться, а Цыдзик дрожит и шепотом молится своей «остробрамской».
Вечером ликвидировать «восстание» приехал обер-лейтенант с тремя солдатами.
Меня и Пшэрву поставили под расстрел. На глазах у товарищей. Скованные командой «смирно», они молча смотрели на нас — две шеренги по девять человек. Мы не видели их: перед нами была только кирпичная стена конюшни, а под ногами, на усыпанной гравием земле, реденькая молодая травка и еще маленькие листья лопуха.
Последнюю связь с родным домом — потертый блокнот с тремя фотографиями (писем я еще не получал) — отобрал, вывернув карманы, приезжий солдат. Три серые, безмолвные фигуры в касках, надвинутых низко на глаза, стояли за спиной. «Наши» пули были уже досланы в патронники.
Месяцев пять назад старшина Юзеф Пронь вспоминал как-то в бараке, на гнилой соломе, варшавский май двадцать шестого года — кровавую борьбу пилсудчиков с эндеками [12] Энде́ки (НД) — польская буржуазная национал-демократическая партия.
за власть. Потом у стен цитадели пилсудчики расстреливали пленных, и наш толстенький Юзё — в то время ефрейтор — командовал отделением. Рассказывал об этом пилсудчик спокойно, и противно было слушать его голос, звучавший в темноте нечеловеческим самодовольством: «Четыре пули в один затылок. А парни все молодые, чубатые. Как жарнем, так волосы все лицо и закрыли».
Теперь здесь другой фашист — пружинистый, крикливый обер-лейтенант с черепами на фуражке и воротнике — действовал быстро, и времени для размышлений у нас оставалось немного. Я только вспомнил о своих волосах, и чужая, холодная мысль: «Докуда они достанут?» — вертелась в голове, как последняя нить, связывающая меня с заходящим солнцем и с залитыми его светом кирпичами, покачивающимися и рябящими в глазах. А по спине бегали мурашки. Здоровый двадцатидвухлетний организм каждым нервом жаждал увидеть этот свой последний миг и каждым нервом боялся его прихода.
И вот послышалась команда…
Нет, не солдатам.
Это наших товарищей повернули направо. Они уходят. На прощание жестко хрустят по гравию их стоптанные ботинки.
Опять команда.
Грянул залп, и глаза — на какую-то долю секунды раньше — сами закрылись.
Но что это? Неужели и после смерти не стихает шум в голове? Неужели и теперь еще можно открыть глаза?.. Я открываю их, и сквозь мглу плывет, покачивается бесчисленными рядами красных кирпичей все та же стена. Потом треугольный красный осколок кирпича на уровне моей головы, чуть левее ее, отделяется и падает на гравий, туда, где молодые лопухи, а рядом — мои ноги в сношенных солдатских ботинках.
Опять команда.
Меня поворачивают от стены.
Рядом со мной — тот же мальчик с волосами и лицом в запекшейся крови. Перед нами — те же каски, винтовки и серый цвет вражеских мундиров.
Они кричат. Кто-то смеется, и я узнаю: это эконом. Длинное, мертвенное лицо его под кепкой искривлено смехом…
По неровным камням узкой пустынной дороги ефрейтор Лерхе гонит меня и Стася.
По обе стороны — зеленые деревья. За ними — поле. Серенький вечер вот-вот сменится дождливой ночью. Где-то не спит еще немецкий вьюрок. Он такой же нетерпеливый и наивный, как и наши вьюрки — и на окраине Стасевой Гдыни, и в моей деревне под Новогрудком. Все вокруг знает, что будет дождь, что и трава напьется вдосталь, и голове под запекшейся кровью станет легче, а он один, чудак, чирикает — просит пить.
Пускай щебечет, нам разговаривать нельзя. Даже когда мы смотрим друг на друга, конвойному кажется это опасным. Он кричит, грозится, что будет стрелять. И ты глядишь перед собой и молча тяжело шагаешь.
Руки связаны, ноги едва идут, а он боится, как бы мы не убежали…
Вахман думает, видимо, так:
«Обер-лейтенанту хорошо, постращал, сел с солдатами в машину и уехал. Шмидту, второму вахману, тоже неплохо: остался с командой и сидит, верно, под крышей. Ты же гони проклятых поляков в город, в лагерь. Туда больше двадцати километров, еще и половины не пройдено. И сколько ни кричи на этих разбойников, они быстрее не идут. А дождь вот-вот начнется. Сильный дождь, долго будет идти, и в темноте они шмыгнут с дороги в кусты…»
На самом дне набитого всякой дрянью вахманского котелка гнездится, верно, и такая мыслишка, что сегодня поляков можно было бы и не гнать, что этот проклятый скаред Гуляйнога мог бы послать с ними в город машину… Но большую часть котелка занимает то, что и у Лерхе называется чувством долга. «Фюрер знает, что делает», — так говорит сегодня первая заповедь. Начальство лучше знает, чего хочет фюрер, и ему, ефрейтору Лерхе, остается одно — послушно выполнять.
Должно быть, от этих мыслей у вахмана вдруг делается легче на душе. Он пытается даже шутить:
— Пшэрва-фон, Пшэрва-граф, Пшэрва-министр! — почти кричит он. — Сегодня Пшэрва был чуть-чуть капут!..
Мы молчим.
Только дождь начинает наконец идти, не вытерпев, очевидно, бессмысленного кваканья этой серой двуногой твари. Сначала падают редкие, тяжелые капли. Бьют по нашим головам, по камням дороги… Потом, как бы удовлетворенные разведкой, миллионы капель дружно обрушиваются на землю.
Сперва я стараюсь сжаться, втянуть голову в воротник. Хорошо бы откинуть с глаз волосы, припустить бегом до первого дерева, чтобы укрыться под ним. Но руки до боли туго стянуты веревкой, и мою попытку вахман принял бы за побег. А на таких ногах, как наши, от винтовки далеко не убежишь… Может быть, отойдут немного и руки, и ноги, и голова?..
Гляжу на Стася. Зайчик как будто почувствовал, о чем я думаю, улыбается. С позавчерашнего дня это первая улыбка.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
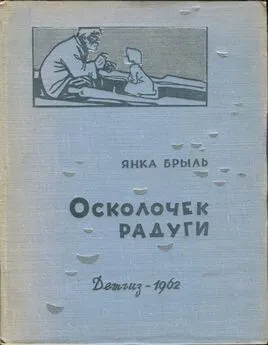








![Степан Брыль - Слово джентльмена Дудкина [Фельетоны, юморески, рассказы]](/books/1096648/stepan-bryl-slovo-dzhentlmena-dudkina-feletony.webp)
