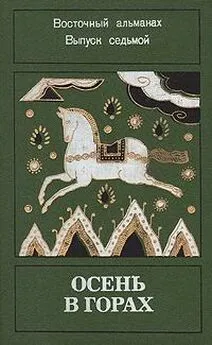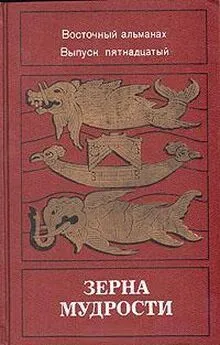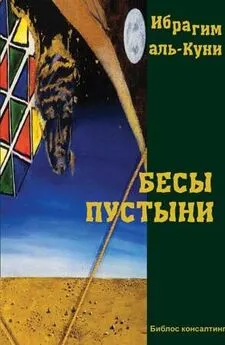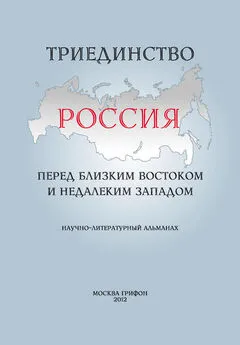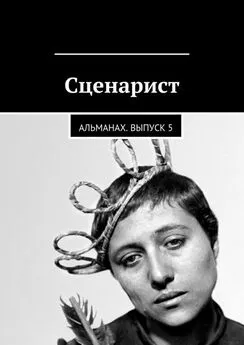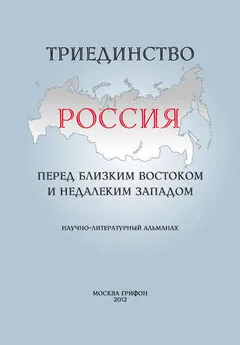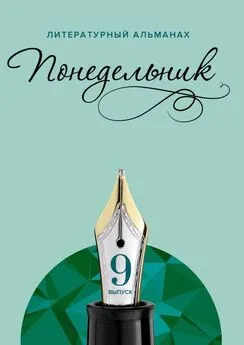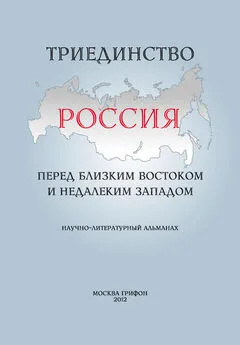Ибрагим Аль-Куни - «Осень в горах» Восточный альманах. Выпуск седьмой.
- Название:«Осень в горах» Восточный альманах. Выпуск седьмой.
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Художественная литература
- Год:1979
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ибрагим Аль-Куни - «Осень в горах» Восточный альманах. Выпуск седьмой. краткое содержание
«Осень в горах» Восточный альманах. Выпуск седьмой. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Научную одержимость Сенковский старался передать своим ученикам в Петербургском университете — среди них М. Г. Волков стал долголетним сотрудником основателя Азиатского музея Френа, В. В. Григорьев — крупным историком Востока, В. Г. Тизенгаузен — признанным нумизматом, П. С. Савельев — известным археологом. О последнем его биограф рассказывал: «Представлялась надобность, при занимавшем его вопросе, прочесть что–нибудь существенное на языке ему не известном: он принимался тотчас за лексикон, за грамматику этого языка, в четыре–пять дней приводил себя в состояние переводить, извлекал или переводил что нужно и затем забывал, разумеется, этот язык до новой с ним встречи. Таким образом случалось ему переводить с венгерского, с древнеисландского. О том же, что он знал употребительнейшие языки Европы и читал, по нужде, на всех остальных, на голландском, например, на испанском или на шведском, нечего и упоминать, потому что это дело обычное почти всем ориенталистам». В этой неукротимой тяге к изучению все новых и новых языков, в вечной научной неудовлетворенности и жажде новых знаний хорошо видна высокая школа учителя.
«Ведь я не Сенковский, чтобы знать все в мире языки!» — говорит герой одной из повестей Бестужева–Марлинского. Тот, о ком у этого героя зашла речь, был, однако, не лишь языковедом широкого размаха: он глубоко изучал всю совокупность исторического творчества народов Азии и античного мира, литературы средневековой и новой Европы, археологию, астрономию, музыку, естествознание и оставил след в каждой из этих областей. Ищущая мысль стремила его ко всему неизведанному; в его доме играли знаменитые пианисты и скрипачи, а родство с архитектором А. П. Брюлловым открывало ему вход в мир художников. Но скромность была постоянной спутницей его жизни. «Кто из нас может льстить себя надеждою, — ронял он уже на закате своих дней — будто он знает все, что теперь известно человеку по бесчисленным отраслям знания? Кто скажет, будто он обнял и постиг все факты, когда мы ежедневно видим, как факты, казавшиеся самыми достоверными, беспрестанно изменяют свой вид и свою сущность при ближайшем разборе; когда эти основания истин так шатки и переменчивы; когда каждая отдельная наука распространяет опытами свои пределы и становится самостоятельною?» [134] «Собрание сочинений Сенковского», т. I, с. XIII.
Но этот признанный ум старался достичь наибольшего.
Долг своей жизни, истекшей 4 (16) марта 1858 года, Сенковский мог считать выполненным.
Приложения
Следующий отрывок из работы Сенковского «Поэзия Пустыни, или Поэзия Аравитян до Магомета» весьма любопытен в двух отношениях: во–первых, он показывает, что, как востоковед–исследователь, Сенковский мыслил глубоко и независимо; для него не истина существует, поскольку ее высказывают авторитеты, а наоборот, авторитеты существуют лишь в той мере, в какой они высказывают истину. Во–вторых, высказывания Сенковского о европейских переводах арабской поэзии не утратили своей остроты и сейчас, ибо насколько наша наука может гордиться выполненными ею переводами западных стихов, настолько переводы восточных не всегда могут быть названы таковыми в строгом и точном смысле этого слова. В своих суждениях автор «Поэзии Пустыни» мог опираться на впечатления не только собственные, но и те, которые сложились у другого заметного представителя польского ориентализма, Вацлава Ржевусского, путешествовавшего в те же годы, что и Сенковский, но в Центральной Аравии. Образ Ржевусского увековечен Мицкевичем в поэме «Фарис», рядом с которой стоят два других «арабских» произведения польского поэта — «Альмотенабби» и «Шанфари». Мицкевич, работая над ними, пользовался консультациями Сенковского — все они составляли один круг, общение было достаточно тесным.
О. Сенковский
Поэзия пустыни или поэзия Аравитян до Магомета
«Величайшее несчастие древней арабской поэзии состоит, конечно, в том, что те, которые старались нас познакомить с нею посредством переводов, не видали никогда Аравитян и не способны были чувствовать никакой поэзии. Отличнейший арабист нашего времени, покойный Сильвестр де Саси, более всех сделал известными в Европе произведения арабского поэтического гения и более всех лишил эти произведения существенной их занимательности для европейского поэта. Переводы его, гладкие и точные, бледны до крайности: можно себе представить, какова должна казаться бурная, кипучая речь вдохновенного Бедуина, когда ее переоденут в парижскую фразеологию! Школа, которую создал этот знаменитый ориенталист во Франции и Германии, наследовала его любовь к арабской поэзии, и продолжает переводить нам ея творения, то есть продолжает убивать ее в своих переводах, в которых отчаянная буквальность истребляет всю красоту, всю силу, весь характер оригиналов. Эти деревянные переводы составляются без всякого чувства поэзии и даже без точного уразумения силы и живописности выражений; словарь играет здесь гораздо большую роль, нежели основательное понятие о предмете. Хлопочут о словах, трудолюбиво сличают рукописи, подбирают и сравнивают различные чтения, мучительно добиваются до логического смысла: все это очень похвально, но бесполезно для поэзии. Да и можно ли передавать на другом языке древнюю арабскую поэзию, поэзию пустыни, никогда не видав ни пустыми арабской, ни образа жизни ея жителей? Какое понятие имеет Европеец о кочевом народе и его быте? Это такие предметы, которых городской житель и воображение, воспитанное европейскою образованностью, никогда не постигнет, если сами их не видали. Не удивительно, таким образом, если ориенталисты, которые никогда не выезжали из Европы, судят об них чрезвычайно странно. Этот упрек можно обратить и к двум недавно вышедшим сочинениям, в которых говорится о поэзии Аравитян до Магомета, именно, «Lettres sur Thistoire des Arabes» — г. Френеля и «Die Poesie der Araber», доктора Вейля. Правда, оба эти писателя были в Египте; но Египет не пустыня и Египтяне не Бедуины, и, при всем уважении к познаниям доктора Вейля, нельзя не назвать взглядов его на эту поэзию чисто немецкими кабинетными взглядами. Между прочим, он, с большими усилиями учености, старается убедить нас, что можно писать стихи «и вне покойного кабинета», и все это для того, чтобы приготовить нас к своему открытию, что первые арабские поэты были в то же время и воины. Да кто же в том сомневался? Разве мы этого не видим из самого содержания их творений? Мы осмелимся сказать более г. Вейлю: эти поэты были простые кочевые Бедуины .
Первое, и совершенно ложное, понятие всякого Европейца о кочевых племенах заставляет его воображать эти народы дикими . Он смешивает их с дикарями Америки и островов Южного Океана. Между тем большая часть кочевых племен грамотна, имеет книги, литературу и не чужда даже искусств. Посмотрите, как рисуют наши Буряты! Право, их картинки во сто раз лучше тех, какими украшались европейские книги в семнадцатом веке. В этих дымных юртах неоднократно учреждались училища, семинарии и даже академии; эти «пастухи» не раз сочиняли правильные истории своего племени; в этих степях, между стад овец и верблюдов, часто гремела слава поэтов, умозрительных философов и богословов. Даже созерцательная жизнь находила доступ к их улусам, и нет сомнения, что многие кочевые поколения бывали и бывают несравненно образованнее иных народов земледельческих и оседлых. Монголы, конечно, выше Черногорцев и Албанцев в этом отношении. Как ни странною кажется нам возможность существования таких обществ, которые с своими училищами, с своей литературой, с своими поэтами, историками, художниками каждую весну переходят в другое место, на новое пастбище и питают непреодолимое отвращение к оседлой жизни и ея удобствам, тем не менее эта возможность — факт, который неоднократно встречаем мы в истории человечества и можем поверить еще и в наше время.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: