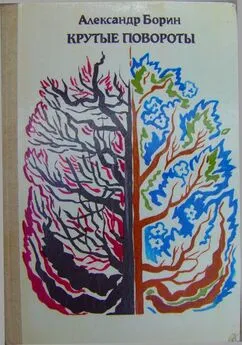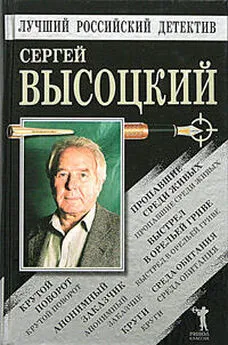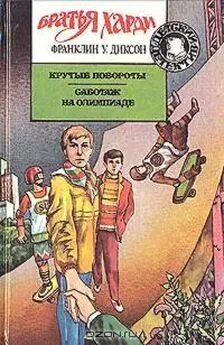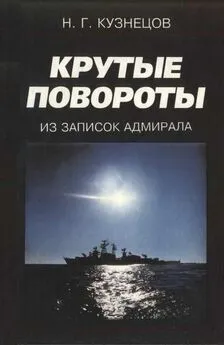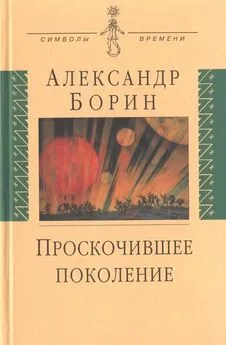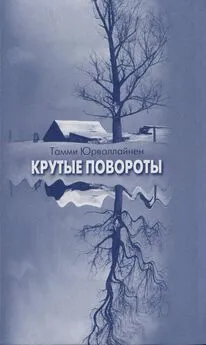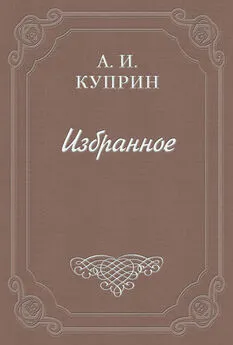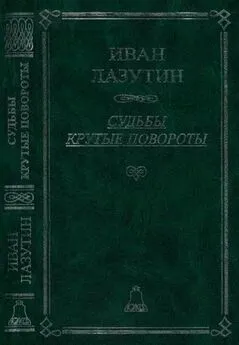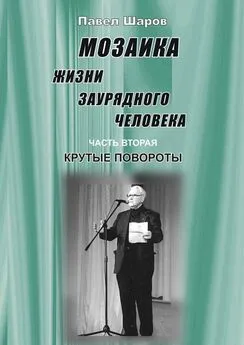Александр Борин - Крутые повороты
- Название:Крутые повороты
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Профиздат
- Год:1983
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Борин - Крутые повороты краткое содержание
Повесть, давшая название всей книге, рассказывает о захватывающих, драматических моментах становления и развития отечественной техники, о петроградских инженерах и рабочих, о сенсационном международном научно-техническом конкурсе, объявленном по инициативе В. И. Ленина. Речь в повести идет о сложном нравственном выборе, о том, как непросто бывает выработать свою, единственно правильную гражданскую позицию. Эту тему органично развивает в книге художественная публицистика, посвященная делам и заботам современников.
Крутые повороты - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
1) предоставить в распоряжение завода 150 рабочих; 2) подать на завод полуфабрикатов для изготовления из них снарядов; 3) усилить питание рачих…»
Насчет питания завод писал так, на всякий случай. Не только на лишний хлеб не рассчитывали балтийцы, не надеялись они получить от Артиллерийского дела даже вдоволь обыкновенной канифоли. «Завод предлагает вместо канифоли заливать шрапнельные пули древесным варом. Есть в наличии». — «Заливайте, не препятствуем».
Помимо бризантных снарядов, на заводе изготавливали горную шрапнель, дистанционные гранаты, фугасные снаряды образца 1907 года… Ремонтировали пушечные стволы.
О строительстве океанских пароходов никто уже, конечно, и не заикался.
Даже когда гражданская война приближалась к концу и импровизированное снарядное производство можно было начать сворачивать, о великих инженерных надеждах восемнадцатого года никто больше не вспоминал.
Наоборот, их стыдились, прежних своих иллюзий.
Из Москвы — в теплушках, медленных полуразбитых поездах — привозили в Петроград глухие, неясные, горькие слухи о том, что республика никогда больше не займется собственным судостроением. Ни сегодня, ни через десятки лет. Пароходы станем выменивать в Европе на лес, пеньку, каменный уголь…
Балтийскому судостроительному и механическому заводу, красе и гордости отечественного судостроения, отныне грозили застой, дисквалификация, разорение.
В семьях инженеров, расселившихся на территории завода в бывшем деревянном особняке начальника и в каменном доме у проходной, по этому поводу безнадежно острили или вдруг задумывали громобойные петиции в самые влиятельные правительственные инстанции.
Семьи рабочих, одна за другой, уходили на село: кормиться.
Чтобы как-то все-таки продержаться, сохраниться, не растерять кадры, завод брал на себя любые работы.
Прежде всего, естественно, ремонтировали суда, выстроенные еще до революции.
На пароходе с новым именем «Карл Маркс» сменили линолеум в кают-компании и заново остеклили иллюминаторы.
Отремонтировали линкоры «Севастополь», «Петропавловск», «Гангут», «Полтава», подводные лодки «Тур», «Ягуар», «Рысь», «Леопард»… Ледокол «Ермак» торговый порт собирался для ремонта услать за границу. Коршунов — правдами и неправдами — добился, чтобы поручили это дело Балтийскому заводу.
Но и такие разовые, вполсилы, работы наталкивались каждый раз на всевозможные неожиданные препятствия.
В архиве сохранилась докладная Константина Николаевича Коршунова относительно ремонта ледореза «Пурга». Она датирована 11 октября 1921 года.
«…В начале марта наступили кронштадтские события, во время которых кронштадтское отделение Балтийского завода было совершенно разгромлено, и приступить к продолжению работ по ледорезу «Пурга» не представлялось никакой возможности, тем более что вскоре последовало распоряжение центральных властей о временном закрытии завода на неопределенное время… Кронштадтское отделение не работало до августа с. г.».
«Временное закрытие на неопределенное время», к счастью, продолжалось недолго.
Но твердые планы относительно дальнейшей судьбы завода, увы, так и не появлялись.
Заговорили было о ремонте автомобилей.
В документах замелькала уже соблазнительная фраза — «зародившееся на заводе авторемонтное дело».
Но и эти надежды очень скоро угасли.
Автомобили на заводе не столько ремонтировали, сколько заново собирали из разрозненных случайных частей. На площадке у бывшего снарядного цеха стояли уродцы с кузовом от «Форда» и радиатором от «Студебеккера». Не было уверенности, что своим ходом они дойдут даже до заводских ворот.
Коршунов распорядился подсчитать, какой объем авторемонтных работ может, принять на себя завод и что для этого нужно.
Ему доложили: максимум осилим капитальный ремонт четырех и малый ремонт восьми автомашин в месяц. А нужны для этого десять квалифицированных слесарей и двадцать подручных.
— Сказки, — сказал Коршунов. — Такую ораву авторемонт не прокормит.
На запрос Петроградской авточасти Морского комиссариата, возьмется ли завод отремонтировать два автомобиля марки «Джеффери», Коршунов вынужден был ответить: «За неимением рабочих не возьмется».
Все, что оставалось Балтийскому судоремонтному и механическому, бывшей красе и гордости отечественного судостроения, — это плужные лемеха, отвалы, веялки, оси для телег, топоры, колуны, гвозди…
Делали их откровенно на товарообмен.
В деревню везли колуны, из деревни привозили муку и конину.
8 июня 1921 года заводу выпал заказ посложнее: рабочий кооператив Новгородского губсоюза запросил у балтийцев сушилку для ягоды смородины.
Машинист, отвозивший сушилку новгородцам, обратным рейсом привез Коршунову на паровозе… живую козу.
— Ты с ума сошел! — сказал Коршунов. — Где я ее пасти буду? На верфи, да?
Козу себе взяла жена главного механика Терлецкого Ольга Николаевна.
Она рассказывает мне:
— Коза паслась между цехами. Люди говорили: у Терлецких коза есть на черный день. Мы ее так и прозвали — Машка-на-черный день… Знаете, как тогда было с продовольствием?
Да, я знаю.
Архивные документы сохранили след чуть ли не каждого съеденного в те годы ломтя хлеба, фунта крупы, ржавой селедочной головы..
Машинистки, перепечатывавшие бумагу, наверное, до смерти боялись ошибиться, перепутать хоть, одну драгоценную цифру.
«…При условии окончания работ в установленный срок цеху будет выдано 2 пуда муки и 12 фунтов сахара и крупы…», «поощрительный паек, имеющий быть выданным по исполнению заказа: 20 фунтов муки, 1 фунт соли, ¼ фунта табаку, 4 коробка спичек, 3 фунта крупы, 3 фунта рыбы, ½ фунта сахарного песку…»
Читаю эти бледные фиолетовые строчки и, мне кажется, сейчас еще ощущаю, как дрожат от напряжения пальцы машинистки…
Два дня подряд коллегия заводоуправления заседала с единственной целью: найти наиболее удобное место для надежного хранения и быстрой, без очереди, раздачи пайков. Пришли к выводу: «единственно удобным по вместительности и подходящим во всех отношениях, позволяющим производить раздачу пайков в четырех-пяти и более пунктах, что устранит совершенно хвосты, является только пустующее ныне помещение механической чертежной».
Пусть читатель вообразит себе — разрубленные на растопку чертежные столы, обрывки калек с чертежом так и не состоявшегося русского океанского парохода и считанные-пересчитанные, на вес золота, мешки и ящики, отдающие кислым подвальным запахом…
Впрочем, даже эти последние запасы приходилось от себя отрывать, делиться с теми, кому еще хуже, еще тяжелей.
«10 февраля 1922 года. Слушали: краткий доклад т. Осипова о положении голодающих Поволжья и призыв его отнестись к делу помощи серьезно, т. к. только рабочий может помочь крестьянину, равно как и крестьянин помочь рабочему..
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: